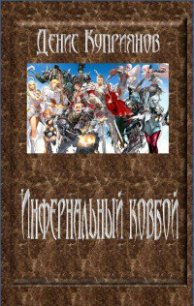"Я у себя одна", или Веретено Василисы - Михайлова Екатерина Львовна (серии книг читать бесплатно .TXT) 📗
Ощущения самой Татьяны в роли бабушки — ведь она хотела спросить у своей семьи, почему так обходятся с чувствами, — подсказывают что-то очень важное. Физическое переживание, перевоплощение, когда мы входим в роль своих предков (особенно предков-женщин, поскольку с ними легче идентифицироваться телесно) часто сильнее слов, раньше слов. Слова, описывающие его, приходят потом, а чувство или догадка поражают сразу, как только человек входит в роль, обживается в ней. У бабушки были совершенно мертвые, поникшие руки. Те самые руки, которые кормят, заплетают косички, ласкают, сажают на коленки, раздают подзатыльники, — пресловутые "руки матери" одеревенели, повисли, они слишком много опускали в землю этих маленьких гробиков. С последней девочкой — Таниной мамой — получилось так: мать очень ее баловала, "одевала как куколку" — бабушка была хорошей портнихой и этим зарабатывала на жизнь. Долго не пускала ее замуж, как будто хотела еще при себе подержать, немножко побыть матерью. Но почти никогда до нее не дотрагивалась, и Танина мама это помнит. Вся ее забота, вся любовь выражалась через бытовое действие — нарядить, подарить, оставить лучший кусочек — но не в прямом общении: что-то умерло вместе с этими детками, что-то прекратилось, душевная жизнь бабушки остановилась, замерла. Она не была злой, она была всего лишь убитой.
Тем временем дед-весельчак во время своих загулов погиб, провалился с санями под лед. И до этого его в семье не было, а тут не стало и вовсе. Кромешное одиночество, неоплаканное горе и полная безнадежность — вот какова была та растянутая во времени тяжелейшая травма, которая в этом роду, в этой семье "запретила" проявление чувств. Страдающая и подавившая, как бы проглотившая, утопившая в себе свое страдание мать каких-то вещей сделать для своих детей просто не может. Руки — деревянные, не ласкают эти руки, не поддерживают — в лучшем случае делают что-то практическое, житейское. Другого способа проявить любовь нет. Потому что позволить себе чувствовать — значит вытащить, открыть эту гробовую крышку и выпустить свое невероятное, неподъемное, нечеловеческое горе, которого слишком много.
Когда мы работали с этой историей, в группе стояла
гробовая
тишина, прерываемая только тяжелым дыханием и чьим-то тихим всхлипом. Конечно, было очень много слез: мы оплакивали горе этой женщины, которой уже нет на свете. Мы не в состоянии представить его полностью, но даже прикосновение к нему просто покрывает смертным морозом, испариной. Мы, которым повезло родиться, повезло выжить, несмотря на все ужасные гримасы нашей истории, смогли хотя бы поклониться и пролить слезу над ее страданием, коли уж она сама не могла этого сделать.В течение нескольких последующих работ то место, где стояли стулья, обозначавшие умерших детей, участницы группы как-то обходили. Ведь нельзя разыгрывать какие-то житейские сюжеты на кладбище, нельзя на кладбище — жить! Туда, однако, надо иногда приходить — то ли помолиться, то ли положить цветочек, то ли стереть песок и пыль с имен, а ведь и имен не осталось от этих детей.
Такая вот страшная, но совершенно не уникальная, не исключительная история напоминает нам о простой вещи, которую мы все знаем. Правда, помнить ее постоянно слишком тяжело, поэтому мы как бы и знаем, и не знаем. Несколько поколений женщин претерпели столько страдания и страдание это было настолько безысходным, бесконечным, нормальным, обычным — все вокруг тоже страдали, — что эмоциональное отупение, бесчувственность стала основной защитой. Ведь в аду важно то, что само страдание не признается, не считается чем-то заслуживающим упоминания и уж тем более оплакивания. Вот так уж у нас, а что поделать?
Есть у Галича такая песня про немолодую женщину, которая ехала в автобусе и забыла взять билет, и вот по поводу этого бытового сюжета рассказывается ее биография со всеми теми ударами, которые сыпались годами, десятилетиями.
А мужа в Потьме льдиною распутица смела.
Она лишь брови сдвинула — и снова за дела.
А дочь в больнице с язвою, а сдуру запил зять.
И, думая про разное, билет забыла взять.
"Она лишь брови сдвинула — и снова за дела" — в высшей степени типичная реакция человека, который обязательно должен выжить, хотя бы потому, что есть дети, но чувствовать не может, размеры травмы слишком велики, ее слишком много. Такое омертвение мы можем воспринимать как грубость, бесчувственность. Да, это может быть и грубостью, и бесчувственностью по отношению к другим людям — и даже к детям и внукам. Танина бабушка Ульяна, между прочим, была ох какая неласковая, когда Таню на нее оставляли. Но подумайте: вот эта старая женщина, прочно, намертво запершая в себе чувства, и прежде всего чувства по отношению к детям. И вот дочь на нее оставляет шуструю двухлетнюю, совершенно здоровенькую, любопытную, проказливую девочку, которую не надо спасать, а надо с нею "возиться". Живость и непредсказуемость обычного ребенка для этой бабушки чрезмерна: "Только отвернешься — а она, зараза, уже вся в варенье перемазалась. Хоть банку на себя не свернула, и то спасибо". Мир — место опасное, ребенок вынуждает беспокоиться, пугаться; как же с этим справишься — рявкнешь разве что, пристрожишь. Я знаю уж совсем вопиющий случай, когда такая вот много перестрадавшая бабушка вообще не позволяла трехлетнему внуку слезать с дивана: только на диване с ним ничего не могло случиться. Так он и раскачивался взад-вперед на том диване, как сбрендивший медведь в клетке, бедный мальчик...
В истории Татьяниной бабушки есть еще одно важное и грозное предостережение. Такая онемелость, эмоциональное окаменение
наследуется
— не генетически, хотя и это дело темное, но наследуется. Во всяком случае, дочь матери с одеревеневшими руками, скорее всего, тоже будет с трудом, неловко, неумело чувствовать. И страшно подумать, с какими опасениями, с какими предчувствиями у Татьяниной бабушки проходила та ее последняя беременность, от которой родилась Татьянина мама. И нетипичная для советского времени многодетная семья — что это: попытка отыграть у небытия хотя бы со счетом один к двум?Первое зеркало человека — это лицо матери. Мы учимся чувствовать и впервые проявлять чувства с ней и от нее. Если мать убита горем, или озабочена хлебом насущным, или сама не получает поддержки — не важно от кого: от мужа, сестер, собственных родителей, — то это зеркало завешено, как в доме покойника. И тогда мы не можем научиться тому, чему должны научиться у нашей мамы в очень раннем возрасте: ощущению покоя и тепла, контакту с другим человеческим существом, умению улыбаться и настырно требовать внимания, доверию к миру.
Исцеление такого рода травм наступает медленно, порой занимает несколько поколений. Обычно для того, чтобы понять, как оно происходит, нужно рассмотреть все семейное древо в целом. Например, в Татьяниной истории, как и в любом роду, существовала другая ветка, уходящая географически на Украину, — шумная, веселая, хлебосольная (во всяком случае, так гласит семейное предание). Татьяну ее родственники без конца зовут приехать с детьми показаться, потому что "та родня же ж". Это жизнелюбивая, позитивная нота: вроде как в той родне и не спивались, и не умирали до срока, хотя как такое может быть? В этом "раскладе" важно, что всякое веселье и жизнелюбие — по линии бабушки и мамы — представляется безответственным, за чужой счет и в конечном итоге ведет под лед, к новому горю и трудностям для кого-то. "Первый парень на деревне" горазд был детей делать, но не растить. А по отцовской линии семьи большие, народу много — колоритного, музыкального, разного возраста и с разными своими чудачествами. Поедет Татьяна к ним гостить или не поедет в реальности — уже другой вопрос, но само их появление в ее работе неслучайно, как будто другая ветвь рода знак подает: ты и наша тоже, в тебе и наши послания живут, родня же ж! Петь, громко разговаривать, ругаться и мириться, любить свою семью, смеяться и плакать
можно.