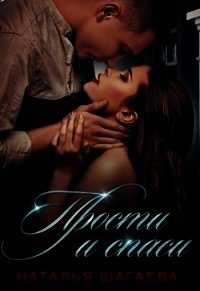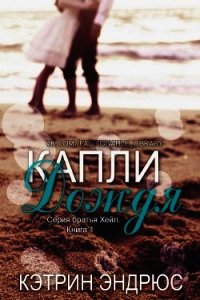Пастырь Добрый - Фомин Сергей Владимирович (первая книга .TXT) 📗
Всю жизнь каждый праздник креста ознаменовывается для меня особым духовным переживанием. И осталось в моем сердце, что батюшка придает кресту особенное значение для меня. Бывало батюшка так хорошо говорил о великом значении креста Спасителя, о тяжести воспринятых Им на Себя грехов всего мира, о страданиях Его, невинного, из–за любви к людям.
Батюшка учил, что каждый раз, как нам наш крест покажется тяжелым, мысленно взирать на крест Спасителя. И подумать, что мы являемся по сравнению с Ним. А крест–то несем самый ведь легкий. Мы не должны искать другого креста, кроме своего, который нам дан Господом и который всегда нам кажется тяжелее других, а на самом деле является самым легким.
И снова он открыл книгу и опять для меня пришлось место о смирении и молитве.
— Видите, как на вас все то же падает: смирение и молитва, — сказал он. — Другого пути, значит, нет… еще любовь.
Первый раз показал мне все, что нужно иметь: смирение, кротость, молитву и любовь. Потом каждый раз читал мне то, что было наиболее важным в данный момент для меня. Сначала особенно напирал на молитву, потом на смирение и, наконец, дал мне последнюю задачу — любовь.
Прихожу в церковь в батюшкины именины. Служит «сам». Хотелось именно в церкви почтить его. Молилась хорошо, как в то воскресенье.
Днем принесла ему гостинец и заметила что–то неладное у него в квартире. В это время батюшку вызвали на второй допрос и долго все не знали, чем это кончится.
Но я, отдавши свой гостинец, пошла домой с полной уверенностью, что батюшка нам нужен, и потому Господь не допустит для него ничего плохого. Почему–то тогда всегда так думалось.
Утром прихожу проведать батюшку.
— Где же была, Александра? — весело встречает он меня. — Тут было без вас меня арестовать хотели. — И стал он мне рассказывать все, что с ним было. Очень хорошо и мудро отвечал он им. — А первое, что спросили меня, — улыбаясь, сказал он, — кто мои друзья? А я им говорю: друзей у меня много, трудно перечесть. А они опять: а именно? Вот на первом месте и назвал вас. Это уже второй раз я назвал вас своим другом. Вас, наверное, теперь арестуют. Нельзя быть моим другом… — задумчиво и грустно проговорил он. — Они моей одышки испугались, боялись, что я умру у них, потому так скоро и отпустили.
Легко он говорил все это, но по его виду, по прерывистому и тяжелому дыханию было видно, что тяжело достался ему этот второй и последний его допрос.
Трудно было отвечать за Маросейку. «Это последний. Больше не будет», — как–то особенно проговорил он.
Бывало часто батюшка, шутя, как бы поддразнивая меня, говаривал:
— Вот придет праздник, а меня не будет. Могут со всем скарбом выслать далеко.
— Нет, батюшка, это невозможно. Где Он (Бог) тогда?
— Разве можно так говорить, — строго, бывало, остановит он. Потом посмотрит вдаль, глаза наполнятся слезами. — Нет, не вышлют меня, никто меня не тронет. Я сам уйду.
И непонятны мне были тогда эти слова, и смущенно молчала я, не смея спросить.
В Лазареву субботу прихожу к батюшке просить благословения на особенный пост на Страстную. У своего «отца» спрашивать боялась.
Батюшка шутил, не соглашался, грозился сказать про «то» ужасное о. Константину и Ване.
— И что с ними было бы, если б узнали! И что было бы! — ужасался он.
Я засмеялась и опять стала приставать к нему разрешить пост. Он отвернулся, долго думал, опустив голову, и, наконец, сказал:
— А муж что?
— Он, батюшка, привык. Я и в прошлом году так делала. Поворчит, а потом ничего.
— А о. Константин?
— Никогда не знал об этом. Я просто благословлялась на Страстную, а как ее проводить, было моим делом.
— Разбойница этакая!
— Простите, батюшка, это было раньше, теперь я умнее. Ну же, батюшка, а батюшка? Разрешите, дорогой. Я к этому привыкла и ничего особенного со мной не будет.
— А выдержишь?
— Ну, а то как же!
— Помни! — и батюшка стал строгим, — если не выдержишь, будет плохо (от Бога).
— Нет, батюшка, разве мыслимо? — А самой сделалось страшно. Очевидно он видел в этом что–то особенное и очень трудное.
— Ну, во имя Отца и Сына и Святого Духа, — благословил он меня.
— Господи, помоги ей, — сказал он горячо.
На другой день после обедни прихожу к нему. Он усадил меня с собою чай пить и не знал, чем угостить. Я никогда с ним чай не пила и чувствовала себя неловко, боясь сделать что–нибудь не так. Он следил за мной все время и заставлял больше есть и пить. Я поняла, что это было его благословение мне на Страстную, которое должно было поддержать меня, что и было на деле.
Когда я напилась, он сказал:
— Ну вот, держись. — Потом опять всю благословил, пристально посмотрел мне в глаза и отпустил.
Страстную постилась, молилась, как только могла, все не умея, но от чистого сердца. Страх перед Плащаницей делался все больше и больше. Как я подойду к Спасителю, Которого я оскорбила.
С батюшкой не говорила, заходила только за благословением для поддержки.
Взгляд его, полный жалости и любви, придавал силу на дальнейшее. Прихожу в пятницу перед исповедью у о. Константина и по обычаю кланяюсь в ноги.
— Ну, кажется, теперь поклоны кончились, а вы все свое. Уж довольно, думается, — сказал он, как–то особенно глядя на меня.
— О. Константин говорит, батюшка, что они только начинаются, — виновато проговорила я. — Батюшка, мне страшно. Я не только не могу приложиться к самой Плащанице, к краю–то ее не могу. Ведь Он там живой лежит!
Батюшка смотрел мне в душу своими темными большими глазами.
— Батюшка, — продолжала я, — у меня живого места ни внутри, ни снаружи. А покаяния нет, и все так же страшно.
— Я знаю, я знаю все, — как–то особенно проговорил он, — вы можете (имеете право) с спокойной совестью приложиться. Скажите так: Господи, дай мне силы любить Тебя, дай мне силы служить Тебе! И с этими словами приложитесь к ногам Спасителя. Слышите? К ногам, и непременно сделайте, как я говорю вам. Скажите эти слова и поцелуйте ноги Его, Его Самого, — вдохновенно произнес он.
Я страшно поразилась. Батюшка сказал мне те слова, которыми я молилась ежедневно и которых никто никогда не слыхал. Это второй раз в жизни он мне говорил мою молитву, которую знал только Бог и я.
Сделала, как он велел, и почувствовала сразу облегчение.
Еще в среду он спрашивал меня, где я буду стоять Страстные службы.
— Как о. Константин велит, — ответила я. — А мне бы очень хотелось стоять двенадцать Евангелий у вас, а он велел к нему приходить.
— Как вы говорите? — оборвал меня батюшка. — Разве так можно? На чтение двенадцати Евангелий! — медленно проговорил он.
— Простите, батюшка.
— Повторите. — Я повторила.
— Вот так. Так и говорите всегда. А то, что это такое, точно говорите, что на такую–то пьесу пойду.
Нужно было всегда с особенным благоговением говорить обо всем, что касалось Спасителя.
Пасху встретила хорошо, но ничего особенного не творилось в душе моей. Прихожу к батюшкой христосоваться. Сидит один, читает. Тихо в квартире.
— Христос воскресе, батюшка! — сказал я, тихо входя в комнату. Он поднял голову, посмотрел мне прямо в душу и, точно обращаясь к кому–то, сказал: — Вот в ней действительно Христос воскрес!
Я опешила. Настроение–то у меня было самое обыкновенное.
Он встал и тихонько похристосовался со мной. Весь его вид был такой какой–то особенный, точно он сам не присутствовал здесь, что мне сделалось страшно и я поцеловала его, как икону. Молча обменялись яйцами. Он сел и снова углубился в чтение, а я, не смея тревожить его, на цыпочках вышла из комнаты.
Ни одну пасхальную обедню не служил батюшка. И как же мне было жалко и досадно на себя, что я по своей глупости пропустила батюшкину Пасху в прошлом году.