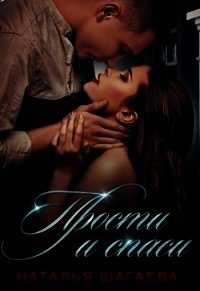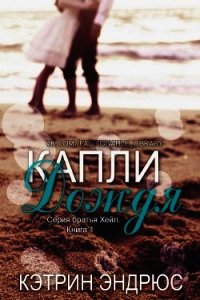Пастырь Добрый - Фомин Сергей Владимирович (первая книга .TXT) 📗
Когда мужа не было, все мои родные жили лучше меня. А в деревне был у них сад. И вот вошла мне в голову мысль — сколько мой муж все помогал, а они мне и яблочка не пришлют. Прихожу на исповедь к Батюшке и ничего еще ему не сказала, а он мне уже и отвечает: «Ты перед собой воображая Животворящий Крест, должна все терпеть без ропота…» И как сказал он эти слова, то подумалось мне: а сколько Спаситель терпел… И мне стало совестно и приходится только говорить: «Простите, Батюшка, меня грешную». — «Ну, Бог простит». И затем: «Словом, делом, помышлением»… и тут же Батюшка накрывает епитрахилью.
Говорю я Батюшке: «Искушает меня окаяшка в таких–то и таких–то словах», — передаю ему. «А ты скажи: «Животворящий Кресте Господень, не остави меня, спаси меня».
Однажды отругал меня отец. Ничего я ему не сказала, а сама в душе обиделась и против него возгордилась. Думаю: вот Батюшка о. Алексий никогда так со мной не говорит, всегда я у него «хорошая». Прихожу на исповедь. Ушел Батюшка в алтарь, дожидаюсь его. Бегом бежит Батюшка из алтаря, лицо у него такое сияющее, глазки веселенькие. Ничего еще ему не сказала, а он подходит и прямо мне говорит: «Отец твой хороший у тебя, а ты вот плохая!»
Раба Божия ПАРАСКЕВА [323]
Публикуется по записи в тетради из архива Е. В. Апушкиной.
«Стояние у человеческого горя» (воспоминания духовного сына)
Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Господи помоги.
Нужно сказать, [но] настолько трудно передать другим свои переживания, связанные с образом почившего о. Алексия.
Прежде всего, необходимо выпустить слово: протоиерей. Отец протоиерей Алексий, — это совсем не то; слово это лишь охлаждает образ почившего. Батюшка о. Алексий, — вот то, с чем сжилось наше сердце. В деле подхода к о. Алексию необходимо и в себе самом и в своих словах найти все озарение, всю любовь и жалость, что так глубоко пропитывает переживание слова: Батюшка. А как это трудно для нас.
Мы все привыкли в общении с Батюшкой говорить о себе и только о себе. Это как–то раз отметил и сам Батюшка. Больше того, мы привыкли находить у него столь радостную себе встречу, что каждому из нас казалось, как выразилась одна сестра, будто именно его Батюшка больше всех любит. Поэтому трудно, привыкши только получать, теперь что–то дать и боязно услышать голос покойного, возражающий: «не то, не то, совсем не то».
Сказать о Батюшке, это значит сузить, приземлить его лицо и отнять непосредственность у своего переживания, а Батюшку, жившего не логическими формулами, формулами и не охватишь. Батюшка не книжник и не мыслитель; Батюшка — огромное сердце, охваченное жаром прозревающей жалостливой любви, спорить он не мог, он и не спорил; но то, что он говорил, шло выше, какой либо логики и принималось помимо логики; потому что так говорил Батюшка.
Для людей неверующих Батюшка был в особенности не понятен, и не раз ему задавался вопрос, чем объяснить его влияние на людей, но Батюшка объяснить этого также не мог, потому что он воспринимал человека непосредственно в его прошлом, настоящем и будущем. Это прозрение через проникнутое жалостью сердце можно разве сравнить с прозрением матери у постели опасно больного ребенка.
Нужно самому быть подобным Батюшке, чтобы воспринять его облик, без этого приходится лишь констатировать, а не объяснять.
Вот Батюшка на пороге своего кабинетика видит незнакомую ему молодую с расстроенным лицом девушку, мгновенно до слез проникается к ней жалостью и, не ожидая ее вопросов, сразу отвечает на все, а сам матерински радостно, глазами полными слез все смотрит и смотрит на нее. Чего здесь больше: прозрения или жалости и что здесь — прозрение ли жалеет, или жалость прозревает.
Батюшка нами тоже не охватываем; и сам он это сознавал. Однажды в разговоре он дал понять, что в своих переживаниях он чувствует себя, как бы носящимся над нами, и помню несколько раз повторял: «Вы меня все не понимаете, у вас нет опыта».
К тому же Батюшка был большой сокровенности духа и открывался собеседнику в меру его духовного возраста. В разговоре о приемах руководства он определенно говорил: «Нужно иметь ясную конечную цель, но вести к ней незаметно, ставя «вехи» настолько близко к человеку, что руководимому кажется будто он идет по своей воле». Этот прием, по–видимому, и послужил основанием одному лицу по недоразумению выразиться: «Батюшка духовно себе на уме».
Однако переживание духовного взлета над людьми не делало Батюшку в его глазах одиноким и не порождало в нем чувства одиночества; он весь находился в переживаниях мировой гармонии любви, где он, Батюшка, являлся лишь одним из звеньев.
От великого до малого один шаг, — и Батюшка, не охватываемый нами, немощными, временами сам чувствовал себя немощным. Помню зимою, сидя в его кабинетике, в разговоре о семье глаза Батюшкины неожиданно наполнились до краев слезами, детскими крупными слезами. «Вот мои дети, — сказал он, — все хорошие ребята, любят и заботятся о мне; но не могут мне заменить моей покойницы, — та все мои слабости знала и любила их».
Но это свое горе, переживаемое Батюшкой сокровенно, где–то на дне своей души, лишь оживляло Батюшкину способность всецело проникаться чужим страданием. Как передают свидетели [его] жизни, Батюшка слишком много предварительно выстрадал, и блаженной памяти о. Иоанн Кронштадтский, ставя Батюшку на путь старчества, по свидетельству лица непосредственно от Батюшки слышавшего, указал на Батюшкино личное горе, как на источник понимания горя других.
Личное горе не допускало Батюшку до отрешенности от жизни; наоборот, связывало его с нею и делало его столь чутким к нашим страданиям. Нося свое горе, Батюшка верным, несменяемым стражем стоял у нашего и, зная по опыту, как тяжело до старости дожить не разгруженным, он так всемерно старался нас разгружать.
Впрочем, в своих разговорах Батюшка отмечал и другой источник. «От природы, — говорил он, — имею я очень жалостливое сердце». И действительно, всегда была поразительна степень его жалостливости. Стоило Батюшке вспомнить чье–либо горе, и независимо от того, к какому времени оно относится, Батюшка уже плакал, задыхался от волнения и судорожно хватался руками за грудь.
Нас — своих детей — Батюшка учил образом своим. Как можно учить жалостливой любви, не проявляя ее, и какие слова могут оказаться убедительнее самого примера. Он нас учил не доказательствам веры, а переживаниям ее; в частности, нас, священников, он приучал к переживаниям своего духовного чада до чуткости материнской любви; и нам, священникам, пришедшим к этому сану из мирян, он на живом примере себя самого показал, что наряду с [такими] великими мировыми явлениями, как народное хозяйство, народное государство, наука, печать и искусство, есть несоизмеримо более великое и безконечно более важное: перегруженное скорбями человеческое сердце. Он нам воочию показал эту величайшую мировую державу; больше того, сделал для нас возможным воспринять ее не в форме логического размышления, а в самом живом переживании ее.
Это непосредственное и столь исключительное стояние у скорбного человеческого сердца делало Батюшку плохим человеком порядка; он не был склонен видеть в ком–либо «язычника или мытаря», и поэтому сторониться его. Его расширенное сердце никого не отказывалось принимать, раз к нему приходили со скорбью, и он всех приходивших старался утешить, ободрить и отпустить с разгружающей ласкою; этим объясняется, что среди батюшкиных детей–священников оказались люди не твердые и тем не менее им не отвергнутые, этим объясняется и то недоумение, будто уклонение этих нетвердых совершалось с батюшкиного благословения. Сам Батюшка был строго верен традициям Православия, но у подходивших к нему он не спрашивал: како веруеши, а только, о чем скорбишь. Напротив, в случаях, когда Батюшка видел силы человека постоять за веру, он определенно и возлагал на такового подвиг исповедничества.