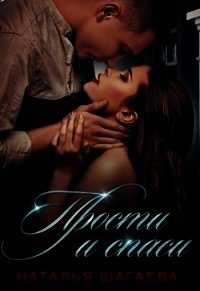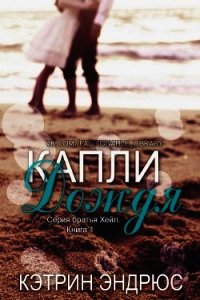Пастырь Добрый - Фомин Сергей Владимирович (первая книга .TXT) 📗
Таким я пришел к о. Алексию.
Маленькая церковь на втором этаже, не выделяющаяся из ряда домов, удивила меня своей незаметностью. Во втором этаже небольшого аккуратного домика, в глубине мощеного, но заросшего травой двора, была (в 1918 году) квартира о. Алексия, и как только я завернул за угол и увидел парадное, меня удивила кучка народу у дверей на лестницу — это был конец очереди, тянувшейся от однопольной двери квартиры о. Алексия.
Было человек 80 ожидавших возможности увидеть Батюшку, и меня поразило разнообразие ожидавших. Хотя преобладали женщины, в толпе попадались и мужские лица, встречались интеллигенты, слышались даже иногда слова нерусского говора. Не надеясь дождаться, я узнал, когда начинается прием, и в ближайшие дни пришел пораньше, и все–таки был восьмым или девятым. Я стал на ступеньку и стал всматриваться в лица приходивших, прислушиваться к разговорам, вращавшимся вокруг личности Батюшки.
Женщины в платочках, пришедшие «за советом» об устройстве своих семейных и жизненных дел, скорбные фигуры и лица людей в беде, юноши с душевным смятением, странники окружали меня, и неожиданно прозвучал голос иностранки, говорившей по–русски, и как я узнал случайно, принявшей Православие под влиянием Батюшки.
Открылась небольшая дверь, и на пороге появилась маленькая худощавая фигурка Батюшки с проницательным взором, оглядывающим ожидавших. Все замерли и устремились к нему, а он смотрел и как бы выбирал наиболее в нем нуждающихся, проникая в сердце, твердый и решительный в своем выборе.
Некоторые, взволнованные, выходили довольно скоро, и долго тянулось время в ожидании выхода других и появления Батюшки.
Настала и моя очередь. Приняв трех или четырех, Батюшка внезапно обратился ко мне. Со смятенным сердцем прошел я через маленькую полутемную прихожую в маленький кабинетик. Батюшка усадил меня и сел рядом.
Только потом осмотрелся я — вначале видел я лишь одни глаза Батюшки, — то лучисто–ласковые и радостные, то напряженно–проницательные, как бы вглядывающиеся в душу, раскрывающие сердечные тайны — и чувство полной открытости твоей души для Батюшки, чувство, находившее иногда подтверждение в случайно вырвавшейся у него характеристике твоего душевного состояния, создавало исключительную близость, выводило за пределы человеческих отношений.
Долго длилась моя исповедь (назвать ее иначе не сумею, хотя внешне это и не было выражено) и, когда наступил какой–то решающий момент, Батюшка стремительно встал, устремился к образам в переднем углу и увлек меня за собою. Свежий живительный поток как будто нисшел на меня и очистительные слезы раскаяния и жажды новой жизни, жажды освобождения и небесной легкости наполнили все мое существо. С какой–то удивительной осязательностью предстала моя греховность, моя противоположность небесному, чувствовалась вся тяжесть греха, и в то же время, в необычайно возвышенной форме воспринималась радость и легкость жизни в духе, счастье непорочности.
Когда, кончив молитву, Батюшка благословил меня и начал говорить, всем сердцем я стал внимать ему, но не словам, а тому необычному и новому, что рождалось в душе в его присутствии, что обновляло, возрождало, делало сильным.
Только немного успокоившись, я начал его понимать, а он, с необычайно радостным видом, обращаясь ко мне, стал ободрять, шутливо прибавлять к моему имени «ну, отец…» (что было его обыкновением, но вначале смущало своей непривычностью), проявлять удивительную ласку, рассказывать о себе («Бог дал мне нежное сердце»), рассказывать случаи из своих встреч с людьми и этими рассказами незаметно наводить на нужное, что, только понятое самим человеком, может указать необходимый ему выход.
Этот удивительный осторожный подход к человеческой душе был необычайно характерен для о. Алексия. Он никогда не морализировал, никогда не говорил отвлеченно — всегда живыми образами людских ошибок и заблуждений, в которых пришедший сам должен был находить то, что касалось его непосредственно. Иногда образы эти, на первый взгляд, казались не имеющими к тебе никакого отношения, иногда даже думалось: «Зачем Батюшка мне это рассказывает?» — и только потом, обдумывая его слова и заглянув вглубь своей души, делалось ясным, какое прямое отношение имел к тебе его рассказ, какой новый путь намечает он в твоей жизни.
Во время затянувшейся беседы Батюшка несколько раз выходил к ожидающим и оставлял меня одного, и только тут я осмотрелся и увидел стол и полку, заваленные книгами духовного содержания, иконы, портрет Оптинского старца Амвросия и фотографию всего духовного генеалогического древа Оптинского старчества в портретах его представителей.
С какими–то новыми силами ушел я от о. Алексия и бережно хранил его образ среди житейской суеты, как лазурную дверь к небу.
Мне было стыдно приходить к нему без крайности — слишком велико было море горя, душевных страданий, которое он облегчал и утешал. Только новые падения или необходимость разрешения основных жизненных вопросов приводили меня к нему, и каждый раз ощущение нисхождения потока света и любви было так удивительно сильно, что слезы вырывались из души, обновляя и даруя новые силы.
Уходя как–то от него, я шел позади двух старушек, говоривших об о. Алексие, и голос одной из них на всю жизнь запомнился мне.
— Безпременно надо припадать к старцам, — с увлечением говорила она, и сила этих слов, рожденная опытом «припадания» к живому носителю благодати, с каждой встречей все возрастала во мне и углублялась.
Необычайно простой, и внешне — совсем простой деревенский Батюшка, — о. Алексий тщательно скрывал свою прозорливость, стараясь сделать ее проявление возможно более естественной, но тем не менее она не раз прорывалась и в беседах и описаниях моих душевных состояний, о которых я ему не говорил, или в удивительно метких характеристиках близких мне лиц, которых он никогда не видел и о которых я ему не рассказывал.
Поистине он был человек не слова, но духа и силы, это давало ему то исключительное влияние, которое он производил на всех, — от неграмотной, но живой сердцем бабы, до профессора и даже коммуниста.
В своих наставлениях, мне данных, о. Алексий старался привлечь внимание к творениям и жизни Святых Отцов — авве Дорофею, Макарию Египетскому, Древнему Патерику, но в то же время примерами указывал на необходимость внимания к семейной жизни, на невозможность забрасывать ее во имя общественных интересов, на искушения тех, которые идут в монастырь, — одним словом обращал внимание на применение святоотеческого опыта к жизни в миру.
В последний «келейный» год его жизни, когда здоровье и обстоятельства не позволяли ему принимать народ, как он делал это всю жизнь, ему приходилось много лежать в постели из–за болезни сердца. Радостный, в белом подрясничке, в малюсенькой светло–серой спаленке, предстоит он мне, окруженный иконами и книгами, с лучистыми голубыми глазами, и венцом седых волос. И этот возносящий от жизни образ, как вечный, неветшающий знак, стоит в памяти обетованием блаженной встречи с ним за порогом этого мира.
Николай Б.
Публикуется по машинописи из архива Е. В. Апушкиной. Первая публикация в кн.: Епископ Арсений (Жадановский). Воспоминания. С.55—59. Автор воспоминаний — Николай Александрович Б.
«Батюшка плакал о нас всех»
Мне советовали пойти к Батюшке: и службу хвалили, и говорили, что Батюшка меня поймет и сумеет удовлетворить моим духовным потребностям. Но я на это ответила: «Для меня все равны, что Петр, что Алексий, — никакой разницы нет, священник и священник!» Но меня настойчиво просили зайти именно к Батюшке.
Несколько месяцев спустя, как–то после Пасхи в 1921 году шла я по Маросейке, вижу — церковь открыта, спрашиваю, какой завтра праздник. Говорят: «У нас каждый день служба, и утром и вечером». Зашла в храм. Народу было очень мало, служил о. Сергий, певчих несколько человек. Я случайно стала около певчих и все дело себе на первое время испортила. Пели очень плохо, толкали друг друга, смеялись, ошибались, ссорились, капризничали. О. Сергий к ним несколько раз приходил, уговаривал их, помогал им. Впечатление от всего этого было очень неудовлетворительное. Но я пришла увидеть Батюшку, а его не было в Москве. Несколько раз еще приходила в церковь, но с певчими больше не вставала и близко подходить к ним боялась.