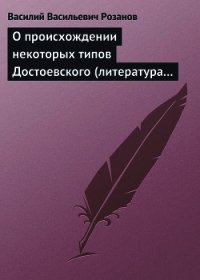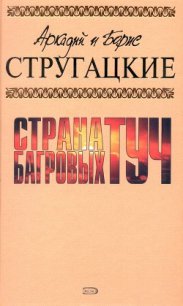О писательстве и писателях. Собрание сочинений - Розанов Василий Васильевич (мир бесплатных книг txt) 📗
Все это, — и дальше вся статья С. Н. Булгакова, выдающегося теперь московского славянофила, — с самым небольшим «остаточным хвостом» марксизма и вообще экономизма в себе, — превосходна, верна, и не должна забыться в длинном ряде оценок Леонтьева, сделанных многими выдающимися умами России, — сделанных и так, и этак, но всегда с удивлением перед его огромным умом, вернее перед его огромною душою. Булгаков верно в конце статьи замечает, что Леонтьев весь вылился «в свой стиль», что и лицу его и биографии, и писательской деятельности «удалось найти свой особый и единственный, исключительный стиль».
Это вполне верно и очень многозначительно. Хотя он в общем и отдельном очерке и принадлежит к славянофилам, но он не умещается в схему славянофильства, превосходя ее, будучи шире ее, нося в себе и в кругозоре своем, а особенно в душе своей какие-то новые и совершенно бесконечные дали… Западником он уже окончательно не был, хотя и то надо сказать: он был страстным западником до европейского XIX в., точнее, — до эпохи французской революции. После чего встал на Европу положительно «с опаленными крыльями», как некий демон ее, как проклинатель ее. Большего проклинания, чем у Леонтьева, Европа XIX века, Европа революции, конституции и пиджака ни от кого не слыхала, — ни от французов, Жозефа де-Местра и Бональда, ни от разной немецкой мелочи, ни от русских славянофилов старой фазы. Те «отрицали» Европу, Леонтьев проклинал и презирал, и до того сознательно, до того идейно, как именно «некий демон»… Булгаков опять верно называет его в одном месте «буревестником», и это не бедный, не скудный «буревестник» Максима Горького, который вещал грозу всего на 24 часа завтрашнего дня, с полным и ясным днем, с миром и благовестием на все следующие дни, на целый год, на целую вечность… Возле Леонтьева все эти «буревестники» революции оказываются какими-то куцыми, какими-то «публицистами плохой газеты с большим успехом на сегодня», в сущности, людьми совершенно мирными и добродетельными. М. Горький — буржуй, да так ведь и оказалось на деле. Человек богатый, знатный, и если не ездит «в своем автомобиле», то лишь ради старого renomme вождя пролетариата… На самом деле все они, и Горький, и Короленко, и Андреев, и Амфитеатров или М. М. Ковалевский, — суть люди буржуазной крови, буржуазного духа, волновавшиеся и волнующиеся потому единственно, что не «они сегодня господа положения», и собственно дожидающиеся, когда подкатит к их крыльцу «автомобиль с гербами» и отвезет их в хорошее министерство и на хорошую должность… Тут. ни спорить, ни возражать нечего. Это просто не интересно. Но Леонтьев?
Он был демоничен, т. е. отрицателен по отношению к целому фазису всемирной истории, и отрицателен не по чувству, не по складу сердца, а по целому систематическому воззрению на историю, по «идеям» и «мыслям». Это его знаменитый взгляд на «три фазы всякого исторического развития», — первичной простоты, последующего цветущего усложнения и вторичного упрощения, наступающего перед смертью. Взгляда этого никто не поколебал, никто не оспорил, — да никто и к разбору его в нашей ленивой литературе не приступал. «Ведь мы занимаемся только Шопенгауэром и Трейхмюллером». Никакой у нас науки нет, никакой широкой публицистики нет, никакой вообще идейности нет и никогда не было. Иначе о Леонтьеве давно выросла бы не литература газетных статеек, а сложилась бы давно уже, за 25 лет после, его смерти, настоящая литература книг, целая библиотека книг, исследований, оспариваний, пропаганды. Но мы это делаем только с Трейхмюллером и еще с Дарвином. «Русь-деревня» [356], «мы ленивы и не любопытны» [357], — Пушкин сказал, и на этом надо кончить. «На Руси ничего русского не растет. Растет одна Германия и кой-кто из инородцев». На этом и «шабаш» и «кончено дело».
Учение Леонтьева о трех фазисах всякого развития, всякой истории, всякого прогресса, взятое им практически из медицинских наблюдений, из фазисов просто «жизни» и «смерти» под глазами «мудрого врача» и перенесенное затем в историю и политику, а вместе с тем и осложненное его великими эстетическими порывами и глубокою филантропиею, бесконечною любовью к человеку, бьющемуся на земле в узах жизни и смерти, — это учение есть корень «всего Леонтьева», всех его отрицаний и утверждений, его политики и монашества. Он ушел в монастырь «от смерти», видя, что в данную эпоху европейского и нашего развития всюду торжествует смерть, разложение, какой-то отвратительный гнилостный процесс человека, умирающего «в пневмонии» (его любимый пример) и задыхающегося в мокроте, которую неодолимо и неудержимо выделяют его легкие. Не будь этого самосознания, живи он с теми же самыми мыслями в век Екатерины, и он просто и хорошо прожил бы жизнь, прожил бы ее радостно и весело, без всякого монастыря и без всякого решительного «византизма». Таким образом, Леонтьев, в идейном своем строе, может быть понимаем и истолковываем лишь как человек XIX века, лишь как борец против XIX века. Хотя методы и средства борьбы, именно эта его теория, столь же обширная по горизонтали, как, например, обширен дарвинизм, гегельянство («метод Гегеля») или пессимизм, — выносит его за пределы XIX века и соделывает братом всех веков, работником во всех веках, другом всех «благомыслящих» людей. Человек очень небольшого образования, всего только «практикующий медик», он в силу эстетической и политической одаренности, «да и так, почитывая вообще» и заглядывая «во все уголки мира» своим любопытствующим глазом, — стал «в разрушающейся Европе», в сем «разрушающемся втором Риме» по обширности и сложности цивилизации, грустным певцом песен, и хочется его сравнить с эллинским не то Ксенофаном, не то Эмпедоклом, не то Пифагором, который охотнее всего основал бы новый «Пифагорейский союз» с бунтом против демократии и с какими-нибудь эстетически-философскими оргиями внутри самого союза. Но для него не нашлось Кротоны, он был всего только русским цензором, русским консулом и монахом в Оптиной, да вечным должником своих друзей. Но жизнь его в Элладе сложилась бы совершенно иначе; иначе протекала бы она и около византийских автократов. Он ужасно неталантливо родился; родился не для счастья. Но по условиям, но по качествам души он мог прожить счастливейшим в мире смертным, заливаясь смехом, весельем, «безобразиями» (слишком желал), и ни чуточки не помышляя о смерти и монастыре. «Не туда попал». И вся его личность и роль в истории есть личность и роль «не туда попавшего человека». Как-то в молодости, перед прогулкой, я услышал напевец юного юриста «с чрезвычайно строгой последующей деятельностью» на поприще прокуратуры. Оглядываясь, он запел:
Вот и у Леонтьева, попавшего «не в тот угол истории», не оказалось в жизни ни «бумажки», ни «милашки»…
А «попадись», — было бы дело другое. Показал бы «наш Леонтьев» (воистину «наш») современникам своим, «как надо жить». Во времена Потемкина, и еще лучше — на месте Потемкина и с судьбою его, он бы наполнил эпоху шумом, звоном бокалов, новыми Эрмитажами и Публичными библиотеками, ну, и уж походом на Царьград. Потемкин, Леонтьев, Суворов: воображаю картину.
— Чего вы, Русские, носы повесили? Вам говорят — гуляй!! Сверху приказание — гуляй!!!
— Ни одного слова о похоронах, о смерти.
Он залил бы таким весельем страну, таким упоением, как «Русь не видывала». Ах, не в тот век родился! Родился, когда действительно «носы повесились» и все даже на бал стали являться в «похоронных одеждах» (черный фрак и белая грудь).