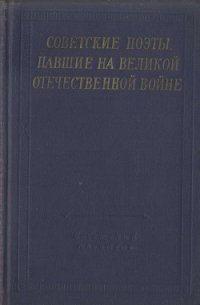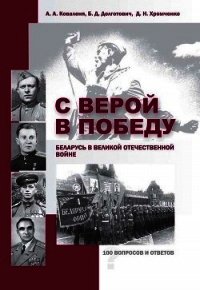Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне - Афанасьев Вячеслав Николаевич (читать полные книги онлайн бесплатно txt) 📗
Не менее важно продолжение этого эпизода. После рассказа о происшествии матери Володя слышит ее болтовню по телефону с подругой о том, что буржуи и угнетенные — это газетная чушь, что тетя Надя «толстая бабища, безвкуснейшая парвеню». И в нем вдруг просыпается «классовое сознание», а точнее — то же чувство справедливости, рыцарства, которое помешало бить кукол: «“Вы обе врете Вы — буржуи. Мне наплевать Я не спрошу. Вы клеветуньи Не дрожу и Совсем от радости дрожу”. Он врал. Да так, что сердце екнуло. Захлебываясь счастьем врал…»
Может быть, необязательная, но многое позволяющая понять аналогия. В записках Э. Капиева, тоже относящихся к тридцатым годам, есть такой эпизод «В вагоне. Двое крестьян между собой, не стесняясь ругают вовсю советскую власть. Она и такая, она и сякая, и житья нет. Сидящий напротив, интеллигентного вида, с черной бородкой толстяк, начинает им поддакивать и ехидно вставлять от себя — мол, действительно, житья нет. Вдруг крестьяне настораживаются.
— Ишь ты! Стало быть, тебе не нравится наша власть! Ах ты буржуй! А что ж тебе, царя, что ль, поставить? Видали?
— Позвольте, да вы ж сами только что…
— Не твое дело! Мы промеж себя ругаем свою власть. Ваше дело — сторона» [38].
Тип психологического реагирования у Когана сходен. Он ощущает опасность перерождения «маленькой революции» в «преуменьшенный погром», но не принимает высокомерную критику идеи со стороны. При всех издержках это его идея, отказ от которой невозможен, невообразим.
В утверждении этой высокой революционной идеи, идеи светлого будущего, идеи коммунизма есть один важный — вечный — вопрос: о цене, которую человек (поэт, лирический герой) готов заплатить за нее.
Любимый мальчиками сороковых Багрицкий в большом стихотворении «ТВС» (1929), воображаемом разговоре с «железный Феликсом», услышал от него такое исповедание веры:
На съезде писателей А. Сурков цитировал эти стихи как «замечательную образную формулу мужественного гуманизма» и развивал ее дальше: «У нас по праву входят в широкий поэтический обиход понятия любовь, радость, гордость, составляющие содержание гуманизма. Но некоторые молодые (да и не молодые иногда) поэты как-то сторонкой обходят четвертую сторону гуманизма, выраженную в суровом и прекрасном понятии ненависть» (продолжительные аплодисменты) [39].
«Ненависть» как сторона гуманизма — таков идеологический и поэтический «новояз» тридцатых годов [40]. Имеют ли к нему отношение молодые поэты?
Багрицкий-младший, Всеволод (он переживает личную трагедию, арест матери), в 1938 году пишет «Госта», стихотворение-диалог, где идея сметенного лирического героя корректируется проницательным собеседником.
Неправда, что кругом враги — только так, кажется, можно понять смысл этих строчек. И не случайно в конце стихотворения в комнату лирического героя входит мир «круглый, большой, крутой», мир, лишенный испепеляющей ненависти, страха и вражды.
Точно так же было бы несправедливо не видеть в когановской поэме иронической дистанции по отношению к «детским болезням» фанатизма. «В лице молочниц и мамаши Мы били контру на дому. Двенадцатилетние чекисты, Принявши целый мир в родню…» Можно остановиться здесь, объявив когановских мальчишек «интеллигентным» вариантом Павлика Морозова. Но прочитаем дальше:
Если смотреть без предвзятости, поколение сорокового года (не эстетически, а этически) оказывается ближе к «старому» гуманизму, чем к некоторым своим ближайшим предшественникам и современникам. Идея самопожертвования характерна для него гораздо больше, чем идея насилия, ненависти как составной части гуманизма. «Я не хотел этого. Я не хотел зла никому, когда шел драться, — размышляет герой гаршинского рассказа, впервые убивший человека в бою. — Мысль о том, что мне придется убивать людей, как-то уходила от меня. Я представлял себе только, что я буду подставлять свою грудь под пули. И я пошел и подставил» [41].
«Мое поколение — это пулю прими и рухни» (П. Коган), «И необходимо падать юным… Пусть не песня, а я упаду в бою» (М. Кульчицкий).
Как герой гаршинских «Четырех дней», они торопились на войну не убивать, а подставлять свою грудь — чтобы торжествовало общее дело. Лишь помня об этом, можно понять место в их мире, в их стихах идеи интернационализма.
Можно, конечно, процитировать известное четверостишие Когана из неоконченной главы «Первой трети» («Но мы еще дойдем до Ганга, Но мы еще умрем в боях, Чтоб от Японии до Англии Сияла Родина моя») и победно объявить поэта сторонником «имперского экспансионизма» или, еще пуще, создателем образа «советского агрессора». Можно, но ведь стихи Когана совсем не про то. «Разумеется, вовсе не о военной экспансии, не о завоевании Россией Японии и Англии говорится в этих стихах. Распространится на всем пространстве земного шара и будет сиять в веках некая духовная родина поэта», — еще много лет назад хорошо объяснил Б. Сарнов [42].
«Не про то» и поэма Кульчицкого «Самое такое» (вторая крупная вещь поколения). Она тоже не об экспансии, а о России как о духовной родине поэта, о всемирном братстве людей («Только советская нация будет и только советской расы люди»), где на равных правах будут звучать и русский язык, и украинская «мова», где «как в русские в небеса французская девушка смотрела б спокойно». Не случайно эпиграфом к одной из глав Кульчицкий берет пушкинские слова: «Когда народы, распри позабыв, В единую семью соединятся».