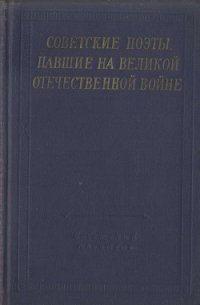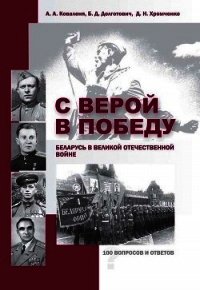Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне - Афанасьев Вячеслав Николаевич (читать полные книги онлайн бесплатно txt) 📗
И даже в сорок втором, когда первоначальные иллюзии легкой победы малой кровью давно развеялись, Фатых Карим пишет такие стихи: «Страна, я под знаменем вырос твоим, Навеки я верен тебе. Ведь клятвенно родине я обещал Просторы ее охранять. Чтоб вражий не смел ни один самолет Над нашей отчизной летать». Что с того, что обещание не имеет ничего общего с реальностью? Автор стилизует структуру народной песни, сравнивая воина с победительным горным орлом («Кипит моя кровь, и хочу я парить Над тучей, подобно орлам»), и эта воображаемая картина подменяет реальность.
А «Последнее письмо» Владислава Занадворова — это изложение боевого донесения в форме письма любимой женщине: «Мы четвертые сутки в бою, нам грозит окруженье: Танки в тыл просочились, и фланг у реки оголен… Но тебе я признаюсь, что принято мною решенье, И назад не попятится вверенный мне батальон!»
«Стихи-рядовые» необходимы и неизбежны в кризисные эпохи, но — недолговечны. Сохраняя ценность документа, они быстро теряют эмоциональную заразительность образа, потому что она и изначально невелика.
Самое существенное во фронтовой лирике — процесс высвобождения реальности из оков лозунгового мышления, поиск индивидуальных путей в изображении судьбы человека на войне.
Поэзия Бориса Кострова (он, командир артиллерийской самоходки, дошел почти до конца войны и погиб в марте сорок пятого в Восточной Пруссии) тоже начиналась с привычной мобилизующей риторики: «Пусть враг коварен — Это не беда. Преград не знает русская пехота. Блестят штыки, грохочут поезда, К победе рвутся вымпелы Балтфлота» («Пусть враг коварен…», 1941).
Так надо писать о войне, такой — победной и бескровной — она должна быть по довоенным представлениям. Эти стихи, как и цитированные выше, в сущности, абстрактны, написаны о войне вообще, составлены из словесных блоков, из фразеологизмов, которыми (если убрать немногие «технические» детали вроде Балтфлота, поездов, танков и самолетов) рядовой стихотворец мог пользоваться и в двадцатом году, и на первой мировой: коварный враг, блеск штыка, просторы родины, замечательная победа, героическая смерть и т. д.
Но постепенно у Кострова появляются и иные стихи — как листки из фронтового блокнота, негромкие, уже без «о» и восклицательных знаков, полные точных деталей, которые невозможно придумать, но можно увидеть пристальным взглядом.
(«Только фара мелькнет в отдаленье…», 1941)
(«После боя», 1943)
На войне, оказывается, не только умирают, но и живут, и сушат портянки, привыкают к свисту пуль, ловят мгновения тишины. А если гибнут, то не так красиво и целесообразно, как полагалось по канонам мобилизующе-героической поэзии.
Попытка освоить, понять уникальность личного опыта и зафиксировать его в бесконечно разнообразных, характерных для лирики вообще, эмоциональных ракурсах, оказалась наиболее перспективным направлением фронтовой поэзии.
Георгий Суворов, как и Борис Костров, поначалу тоже ведет на войне поэтический дневник. Он посвящает стихи-донесения фронтовым товарищам, сочиняет бодрое письмо сестре в тыл, изображает миг перед атакой в уравновешенной форме классического сонета, используя героические штампы (очень далекие от пронзительно точных деталей в стихах на сходную тему Семена Гудзенко): «Сердца на взлете — огненные птицы Сейчас взметнет их гнева алый смерч. Сейчас падет врагу на шею смерть. Сейчас умолкнет зверь тысячелицый» («Перед атакой»).
Но в двух своих, кажется, лучших стихотворениях он выходит на иной уровень — большой поэзии.
(«Мы тоскуем и скорбим…», 1944)
Черно-белая графика, контрастность образов в данном случае содержательна. Гибель безвестного солдата оплакивается в интонации народной песни, но не бравурно-героической, а в интонации плача. И трагедия становится просветленной, включаясь в круговорот бытия.
В сорок четвертом году Суворов пишет другое стихотворение, продолжающее традицию «формульного мышления» Он, подобно Когану, Кульчицкому, Майорову, возвращается к «мы», заглядывает в будущее, но уже без романтической напряженности и избыточности, меняя мотив памятника на мотив памяти.
(«Еще утрами черный дым клубится…», 1944)
Они, действительно, прожили свой добрый век в жестокий век истории. Трагическое поколение несуществующей страны. Кто знает, какую поэзию мы имели бы, если бы они вернулись…
В негромком реквиеме Бориса Слуцкого «Голос друга», посвященном «памяти поэта Михаила Кульчицкого», вновь появляется это фундаментальное для поколения «мы», не разделяющее павших и живых, проникнутое горечью и сознанием исполненного долга.