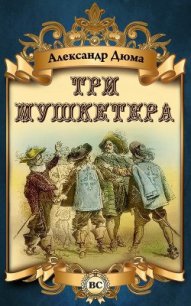Женская война (др. перевод) - Дюма Александр (читать бесплатно книги без сокращений TXT) 📗
Нанон чувствовала, что сердце ее сейчас не выдержит. Она не имела силы отвечать герцогу, только взглянула на Ковиньяка и пожала ему руку, как бы желая сказать:
— Не обманули ль вы меня, брат? Точно ли могу я надеяться?
Ковиньяк отвечал ей тоже пожатием руки и, повернувшись к д’Эпернону, сказал:
— Да, господин герцог, самый сильный припадок прошел, и сестра моя скоро убедится, что возле нее верный и преданный друг, готовый отважиться на все, чтобы возвратить ей свободу и счастье.
Нанон не могла дольше сохранять присутствие духа, и, несмотря на свою твердость, она зарыдала — она, когда-то не умевшая плакать и неизменно сохранявшая ясный, насмешливый ум. Но теперь так много обрушилось на нее, что она стала всего лишь обыкновенной женщиной, то есть слабой, нуждающейся в слезах.
Герцог д’Эпернон вышел, покачивая головой, и взглядом поручил Ковиньяку его сестру. Когда он вышел, Нанон вскричала:
— О, сколько страданий доставляет мне этот человек! Если б он остался здесь еще минуту, думаю, я бы умерла.
Ковиньяк сделал в знак, что надобно молчать, потом подошел к двери и прислушался, точно ли герцог ушел.
— О! Какое мне дело, слушает он или не слушает, — сказала Нанон. — Вы шепнули два слова, чтобы меня успокоить… Скажите, что вы думаете делать? На что надеетесь?
— Сестра, — отвечал Ковиньяк с серьезным видом, вовсе ему не свойственным, — не смею утверждать, что уверен в удаче, но повторяю вам то, что уже сказал: употреблю все усилия, чтобы добиться успеха.
— Какого успеха? — спросила Нанон. — На этот раз объяснимся подробнее, чтобы опять не было между нами какого-нибудь страшного недоразумения.
— Постараюсь спасти несчастного Каноля…
Нанон впилась в него глазами; взгляд ее был страшен.
— Он погиб! Не так ли?
— Увы! — отвечал Ковиньяк, — если вы требуете от меня полной откровенности, то признаюсь, что положение его кажется мне очень плохим.
— И как он говорит это! — вскричала Нанон. — Да знаешь ли, несчастный, что значит этот человек для меня?
— Знаю, что вы предпочитаете этого человека вашему брату, потому что хотели спасти его, а не меня, и когда увидели меня, то встретили проклятиями.
Нанон нетерпеливо махнула рукой.
— Впрочем, вы совершенно правы, черт возьми, — продолжал Ковиньяк, — и я говорю вам это не в упрек, а так, только для сведения. Положив руку на сердце, смею сказать вам: если б мы оба сидели еще в камере замка Тромпет и если б я знал то, что теперь мне известно, я сказал бы господину де Канолю: «Сударь, вас Нанон назвала своим братом, а не меня; она призывает вас, а не меня». И он явился бы сюда вместо меня, а я умер бы вместо него.
— Так, стало быть, он умрет! — вскричала Нанон с горестью, которая показывала, что и самые сильные люди всегда думают о смерти со страхом и мысль о ней никогда не кажется им достоверною, ибо подтверждение ее несет в себе жестокий удар. — Стало быть, он умрет!
— Сестра, — отвечал Ковиньяк, — вот все, что я могу сказать вам и на чем надобно основывать наши намерения: теперь девять часов вечера; в продолжение двух часов, пока я ехал сюда, могло случиться многое. Черт возьми, не отчаивайтесь, может быть, не случилось ровно ничего! Вот какая мысль пришла мне в голову.
— Говорите скорее.
— В одном льё от Бордо у меня сто солдат и мой лейтенант.
— Человек верный?
— Фергюзон.
— Так что же?
— Вот, сестра, что ни говорил бы герцог Буйонский, что ни делал бы герцог де Ларошфуко, что ни думала бы принцесса, которая считает себя полководцем получше их обоих, я убежден: с сотней человек, пожертвовав из них половину, я доберусь до господина де Каноля.
— О нет! Вы ошибаетесь, брат! Вы не пробьетесь к нему! Не пробьетесь!
— Пробьюсь, черт возьми, или меня убьют!
— Ах, ваша смерть докажет мне ваше желание спасти его… но все-таки она не спасет его. Он погиб! Он погиб!
— А я говорю вам, что нет, если б даже пришлось мне отдать себя за него! — вскричал Ковиньяк в порыве некоего великодушия, которое удивило его самого.
— Вы пожертвуете собой?
— Да, разумеется, ни у кого нет причины ненавидеть этого доброго господина де Каноля, и все его любят; меня, напротив, все не терпят.
— Вас не терпят? За что?
— За что? Это очень просто: за то, что я имею честь быть связанным с вами кровными узами. Извините, дорогая сестра, но эти слова мои должны быть чрезвычайно лестны для доброй роялистки.
— Постойте, — сказала Нанон медленно, прикладывая палец к губам.
— Я слушаю.
— Вы говорите, что жители Бордо ненавидят меня?
— Как нельзя больше.
— В самом деле! — прошептала Нанон с полузадумчивой, полувеселой улыбкой.
— Я не думал, что эти слова будут вам так приятны.
— О да, о да; пусть они и не приятны, но, по крайней мере, весьма разумны. Да, это правда, — продолжала она, разговаривая сама с собой более, чем с братом, — ненавидят не господина де Каноля и не вас. Погодите! Погодите!
Она встала, закуталась в шелковую мантилью, села к столу и поспешно написала несколько строк. Ковиньяк, видя, как горел ее лоб и поднималась грудь, понял, что она пишет о чрезвычайно важных делах.
— Возьмите это письмо, — сказала она, запечатывая бумагу, — отправляйтесь в Бордо один, без солдат и без конвоя;
на конюшне есть берберийский конь, который довезет вас туда через час. Сделайте все, что в человеческих силах, только бы добраться побыстрее. Отдайте это письмо принцессе Конде, и Каноль будет спасен.
Ковиньяк с удивлением взглянул на сестру, но он знал всю ясность и силу ее ума и поэтому не терял времени на объяснения. Он побежал на конюшню, вскочил на указанную ему лошадь и через полчаса проскакал больше половины пути. В ту минуту, когда он уезжал, Нанон проводила его взглядом из окна, затем — она, безбожница! — опустилась на колени, прочла коротенькую молитву, заперла в ларчик свое золото, драгоценности и бриллианты, приказала заложить карету, а Франсинетте велела подать себе лучшие свои платья.
II
Ночь спускалась на Бордо, город казался пустыней, кроме эспланады, к которой все спешили. В отдаленных от этого места улицах слышались только шаги патрулей или голоса старух, которые, возвращаясь домой, со страхом запирали за собой двери.
Но около эспланады в вечернем тумане слышался гул, глухой и непрерывный, как шум моря во время отлива.
Принцесса только что кончила заниматься своей корреспонденцией и приказала сказать герцогу де Ларошфуко, что может принять его.
У ног ее, на ковре, смиренно сидела виконтесса де Канб и, смотря с сильным беспокойством ей в лицо, пытаясь угадать ее настроение, ждала времени, когда можно будет начать разговор, не помешав принцессе. Но терпение и спокойствие Клер были притворные, потому что она рвала и мяла свой платок.
— Семьдесят семь бумаг подписала! — сказала принцесса. — Вы видите, Клер, не всегда приятно играть роль королевы.
— Это так, ваше высочество, — отвечала виконтесса. — Но заняв место королевы, вы приняли на себя и лучшее ее право — миловать!
— И право наказывать, — гордо прибавила принцесса Конде, — потому что одна из этих семидесяти семи бумаг — смертный приговор.
— А семьдесят восьмая бумага будет акт помилования, не так ли, ваше высочество? — сказала Клер умоляющим голосом.
— Что ты говоришь, дитя мое?
— Я говорю, ваше высочество, что уже, кажется, пора мне освободить моего пленника, неужели вам не угодно, чтобы я избавила его от страшного мучения видеть, как поведут его товарища на казнь? Ах, ваше высочество, если вам угодно миловать, так прощайте вполне и безусловно!
— Честное слово! Ты совершенно права, дитя, — сказала принцесса. — Но уверяю тебя, я совсем забыла свое обещание, занявшись важными делами; ты прекрасно сделала, что напомнила мне о нем.
— Стало быть?.. — начала Клер в восторге.
— Стало быть, ты сделаешь то, что хочешь.