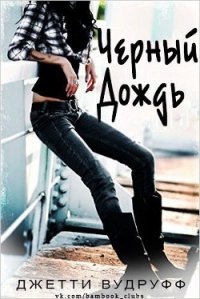Религия - Уиллокс Тим (книги TXT) 📗
Она плакала.
Ампаро вздрогнула в погребальной тьме перед восходом солнца, когда дверь ее тюрьмы со скрипом отворилась. Лампа осветила лицо Анаклето. Она ощутила тошноту. Она приготовилась. Она развернулась к нему лицом, чтобы он не разворачивал ее своими руками. Анаклето поднял руку. В руке он держал длинный кусок темной материи. Ткань переливалась, как что-то живое, когда на нее падал свет лампы. Блеск этой ткани ни с чем нельзя было спутать. И она была красная. Это было платье Карлы.
Во рту у Ампаро вдруг сделалось сухо, и она впервые ощутила страх.
Анаклето бросил ей платье.
Оно упало Ампаро на ноги и скользнуло по коже. Она знала, что это платье означает ее конец, но прикосновение его было приятно. Ампаро взглянула на Анаклето. Веревки, которую она ожидала увидеть у него в руке, не было, но зато у него на лице была написана черная детская ненависть, какой она никогда не видела раньше. Ненависть, внушенная кем-то другим, но направленная на нее. Анаклето указал на платье у нее на коленях.
Ампаро отрицательно покачала головой.
— Надень его, — приказал он.
Ампаро стиснула гребень слоновой кости. Его зубцы впились в ладонь.
— Нет, — сказала она. — Ни за что!
Суббота, 8 сентября 1565 года
Гува
Тишина. Темнота. Камень.
Время, лишенное дней. Время, лишенное ночей.
Лишенное солнца. Лишенное звезд. Лишенное ветра.
Совершенная пустота, призванная поселить отчаяние в душе запятнавшего честь.
Те недостойные обломки людей, которые раньше страдали от невыносимой геометрии Гувы, иссыхали от безнадежности. Их сознания, словно связанные узлом хвосты крысиных королей, все больше спутывались и все туже затягивались. Их мысли, их ночные кошмары и страхи пожирали их мозг, словно нечестивцы, пирующие на человеческой плоти. Но только не мозг или мысли Матиаса Тангейзера.
Среди многочисленных обитателей Гувы Тангейзер был первым, кто наслаждался мрачным заточением.
Упиваясь мощным эликсиром, составленным из телесной усталости, одиночества, опиума и покоя, он скитался по далеким мирам снов, где лица улыбались, вино водопадами стекало по скалам, где все женщины были прелестны, а мужчины добры, где множество самых странных животных бродило, никому не причиняя вреда. Освобождение от битвы, от грохота войны, от тяготящего его бремени товарищества — от необходимости думать, принимать решение и действовать в бурлящем центре Хаоса — оказалось сравнимо по силе с наркотиком. Тангейзер часто мочился, но понемногу, разбрызгивая мочу по поверхности перевернутого колокола, где она подсыхала, вместо того чтобы стекать ему под ноги. А экскременты он выбрасывал в пространство за краем ямы. Он часами отжимался, упираясь руками и ногами в изогнутую поверхность, восстанавливая и укрепляя таким способом былую силу и выносливость. Он размышлял над тайной квинтэссенции, ибо из абсолютного ничтожества возникло однажды все сущее, и, значит, это может произойти снова. Он вспоминал деяния и учение Иисуса Христа, в котором содержались схожие философские идеи, он находил их благородными, и здесь, в Гуве, где граница между вечностью извне и вечностью внутри его сознания иногда, кажется, растворялась, он обрел милость Божью. Он ощущал ее совсем близко, так обитатели леса ощущают приближение весны, но он не обрел ее, отчего пришел к выводу, что ему еще предстоит уплатить до конца все долги дьяволу. Он не задумывался о судьбе любимых людей, поскольку это не привело бы ни к чему хорошему. Он не задумывался и об интригах инквизитора, поскольку был не в силах повлиять на них. Таким образом, он превратил Гуву в свою крепость, он использовал заточение для укрепления тела и духа. Он подолгу спал, свернувшись на дне перевернутого колокола Гувы, старательно погружая себя в забвение, каждый раз откликаясь на призыв сознания. Камень холодил ему кожу, но после нескольких месяцев изнуряющей жары это тоже было не лишено приятности. Он просыпался с затекшими конечностями и ободранной спиной, но подобные неудобства едва ли могли сравниться с военными лишениями. Во время сна он дважды был разбужен кем-то неизвестным, оба раза над краем Гувы возникал свет, который, наверное, был тусклым, но ему казался ослепительным, и вниз падал завернутый в тряпку хлеб и сушеная рыба. Людовико не хотел, чтобы он умер с голоду, он лишь хотел сломить его дух одиночеством и неуверенностью. Инквизитор будет разочарован, но Тангейзер решил, что пока тому не стоит об этом знать.
Когда черный монах наконец явился к нему, его визит был обставлен с той особенной театральностью, какая свойственна только инквизиции.
Тангейзер услышал, как дверь отперли и открыли. Звук шагов и позвякивание доспехов, последовавшие затем, показались оглушительными в той тишине, к какой он привык. Один человек или двое? Да, двое. Свет факела пробился из лишенной очертаний темноты и описал круг над зевом Гувы. Факел остановился и продолжал светить, зависнув прямо в воздухе; Тангейзер догадался, что его древко закрепили на стене камеры. Пока его глаза привыкали к ослепительному свечению, наверху чьи-то ноги поспешно ходили взад-вперед. Кто-то прошел мимо факела. В Гуву спустили лестницу, прислонив к дальней от входа стенке. Тангейзер уловил блеск стального шлема. Затем тень человека отодвинулась от ямы, послышался звук удаляющихся к двери шагов, дверь открылась, потом закрылась, и снова повисла тишина.
Тангейзер ждал — ему показалось, что не стоит покидать свою темницу с излишней поспешностью. Слухом, обостренным пребыванием в тишине, он улавливал потрескивание пламени — и еще он слышал человеческое дыхание. Дыхание было размеренным и спокойным, как его собственное. В дрожащем свете, падающем сверху в его яму, он осознал свою наготу, увидел языческие татуировки на руках и бедрах, мерцание золотых львов на запястье. Но он уже давно привык к собственной позолоченной наготе. Тангейзер поднялся по лестнице, зная, что ему в спину смотрят чьи-то глаза, и ступил на край Гувы. Он развернулся.
На другой стороне разделяющей их дыры в полу стоял Людовико. Хотя тьма за его спиной была непроницаемой, Тангейзер чувствовал, что больше в комнате никого нет. Людовико был великолепен в своих черных доспехах от Негроли. Недавно починенный нагрудник сверкал, будто бы свет падал не от факела на стене, а от украшенной эмалью стали. Он стоял с непокрытой головой. Он явился сюда без оружия. Свет, падающий со стены, оставлял половину его лица в темноте. Глаза его были стигийскими озерами. Если он и удивился бодрости Тангейзера, то не подал виду. Людовико наклонил голову в знак приветствия. Тангейзер уселся, скрестив ноги, на край Гувы и уперся ладонями в колени. Он кивнул Людовико в ответ, и оба они некоторое время рассматривали друг друга через пропасть.
Прошло несколько минут. Может быть, даже много. После лишенного времени молчания ямы это казалось вполне естественным. Потом Тангейзер осознал, что это некое действо, направленное на его подчинение.
— Какой сегодня может быть день? — сказал Тангейзер.
— Праздник Рождества Богородицы. Суббота, восьмое сентября.
Шесть дней. Ему показалось, что прошло одновременно и больше и меньше времени.
— День или ночь?
— Осталось два часа до рассвета.
— И город все еще держится?
— Не просто держится, — ответил Людовико. — Осада уже снята.
Тангейзер внимательно посмотрел на него. Ни одна новость не могла бы быть более сомнительной, однако у Людовико не было причин обманывать его.
— Вчера утром около десяти тысяч солдат высадились на берег залива Меллиха, — сказал Людовико. — Они остановились лагерем на хребте Наш-Шар.
— А что турки? — спросил Тангейзер.
— Они сняли свои осадные орудия и, как говорят, отходят теперь к кораблям.
— Мустафа бежал от десяти тысяч?
— Наш великий магистр освободил одного пленника-мусульманина и дал ему понять, что подкрепление на самом деле в два раза больше.