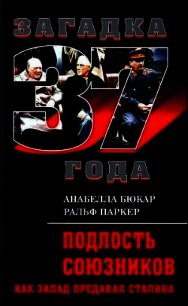В шесть тридцать по токийскому времени - Арбенов Эд. (первая книга TXT) 📗
— Предположение, которое я высказал, не противоречит характеристике японского разведчика, данной вами, господин Сигэки, напротив, пожалуй, подкрепляет его. Поражение в открытой войне не всегда является поражением в войне тайной. Солдат складывает оружие, разведчик сохраняет его.
— Если считать, что тот и другой получают соответствующий приказ. Я, господин подполковник, такого приказа не получал. Иначе не оказался бы в вашем кабинете…
— В отношении вас у меня нет никаких подозрений. Они исключены всем ходом событий. Но другие сотрудники секретной службы могли получить такой приказ. Янагита беседовал с каждым в отдельности, так ведь?
— Допускаю… Со мной он говорил в штабе гарнизона.
— Был кто-то третий?
— Нет…
— Янагита не советовал вам, как другим, смешаться с солдатами гарнизона и сдаться в плен?
— Я сам просил его об этом.
— Вам отказали?
— Отказали… Янагита требовал, чтобы я скрылся, пользуясь обстановкой, царившей в Дайрене.
— Где скрыться?
— За пределами Маньчжурии.
— В Японии?
— Родной дом для меня был закрыт тем же Янагитой. «Если уничтожены все секретные документы, — говорил он, — не должны остаться и люди, их готовившие и тем более писавшие. Врагу нельзя знать нашу тайну — так он мне сказал. — Пусть пройдет время всеобщего любопытства. Когда нас забудут, мы вернемся».
— Какой же адрес предлагал вам Янагита?
— Первый раз, 15 августа, он назвал Южный Китай, портовые города. «Оттуда легче, — рассуждал он, — перебраться в Гонконг или Сингапур». Во время второй беседы была названа Формоза.
— Тайвань?
— Да… Лицо мое не слишком типично для японца, это сыграло определенную роль в моей специализации как разведчика. Я предназначался для заброски на левый берег Амура, в корейские районы.
— Вы знаете корейский язык?
— Достаточно, хотя главным для меня был русский, ему я отдал пять лет, занимаясь в институте иностранных языков. Практику проходил в Харбине, у эмигрантов.
— Переброска не состоялась?
— Янагита не отпустил меня. Слишком удачливыми для нас обоих оказались первые годы работы в Маньчжурии. Лишь однажды мне довелось побывать в Хабаровске в качестве дипкурьера японского консульства. Больше на левый берег я не попадал.
— Не посылали?
— И не посылали, и сам не проявлял желания оказаться в неуютной для меня обстановке. Понял, что не смогу акклиматизироваться…
— Но вы же готовились к этому?
— Долго готовился. На границе весь настрой пропал. Как объяснить вам? Россия была та же, что в лекциях и на фотографиях, и в то же время не та. Уверенности в собственных силах я не ощутил… Это удивительно. Благовещенск по описаниям знал лучше, чем Сахалян и Харбин, даже лучше, чем Токио, где родился. Меня нельзя было смутить вопросом: где такая-то улица или такое-то учреждение? По Хабаровску я мог пройти с завязанными глазами. Но лишь только ступил на берег — Благовещенск расположен на Амуре против Сахаляна, — как все мои познания вроде бы улетучились. Заблудиться я не мог, разоблачить себя — тоже, способен был осесть в том же Благовещенске или Хабаровске и выполнить задание нашего Центра.
Однако именно на левом берегу передо мной ясно вырисовался конец моего пути, и конец скорый…
Интерес к Сигэки Мори усилился. Не одна лишь склонность японского разведчика критически осмысливать события занимала теперь подполковника, внутренний анализ перемен, происшедших во взглядах Сигэки, проделанный им самим с такой беспощадной объективностью, был примечателен. Сигэки пытался понять самого себя. И хотя этот процесс начался, надо полагать, еще до встречи с работниками советской контрразведки, наибольшей активности он достиг теперь. Так казалось подполковнику, и так, вероятно, было на самом деле. Желание быть понятым заставило Сигэки соединять самое доступное и простое со сложным и отвлеченным.
— Я не видел своего противника, вернее, видел, но он был совсем не таким, каким нарисовали мне его в Токио и Харбине и какого я сам представил себе, находясь на правом берегу Если изобразить все это наглядно, то моя предварительная работа напоминала игру в разборный домик. Мой противник был разобран на детали, рассмотрен, прощупан, детали были пронумерованы мысленно и получили свое наименование. Затем я их собрал по схеме. Вышел домик, то есть мой противник. Так повторилось несколько раз, пока руки и глаза не научились производить операцию автоматически. Я знал его характер, привычки, наклонности, вкусы, мог угадать, как он поведет себя в том или ином случае, как будет реагировать на мои поступки, как оценит их. Вооруженность моя была универсальной.
И она мне не понадобилась. Ну как если бы я вовсе явился безоружным, с пустыми руками, что ли. Мы изучали условного русского человека, а он оказался конкретным Он был связан с датой своего рождения и существования, дышал воздухом совсем другого мира, чужого и непонятного мне. Иначе говоря, я не знал этого человека, я не мог сложить тот самый домик, детали которого были в моих руках. Получался, в общем-то, совсем не тот домик. Или совсем ничего не получалось. Я растерялся…
— Вы поделились с Янагитой своими мыслями?
В третий раз пауза…
— Можно считать, что поделился, хотя мысль моя была несколько иной, чем сейчас. Я сказал ему, что не готов к акклиматизации на левом берегу. Я солгал… Уже тогда мне было ясно, что готовности никогда не будет. Надо родиться там, надо жить в мире своего противника…
— Но вы же разведчик по профессии, по призванию, наконец. К чужой обстановке приспосабливаются.
— Должно быть, я плохой разведчик.
Это не было признание собственной безнадежности. Так, исходная точка для размышлений о пределах человеческих возможностей. Поэтому подполковник не откликнулся на слова Сигэки.
— Вы остались в Харбине?
— Меня оставил Янагита: вначале во втором отделе штаба Квантунской армии, потом в Харбинской военной миссии. Он считал меня специалистом по русским вопросам…
— А ваше мнение?
— Янагита ошибался… Россию я знаю, но не как разведчик. Бывает другая степень определения. Ее иногда именуют любопытством, иногда — симпатией. Более точным, мне кажется, удивление. Это не профессиональное отношение к объекту, в котором тебе надо работать»…
— Янагита не разделял вашей точки зрения?
— Нет, конечно.
— Осуждал ее?
— Открыто — никогда. Но оно существовало, это осуждение, и скрывалось как возможная мера воздействия при критической ситуации.
— Критическая ситуация наступила?
— 15 августа.
— Когда решался вопрос о выезде из Маньчжурии?
— Бегстве… Мы должны были тайно покинуть Дайрен Я уже говорил об этом. Янагита не хотел оставлять меня в городе. Причин особых для этого не было — я имею в виду обычные причины. Я догадался: он не доверял мне. Слишком долго нам пришлось быть вместе. Дважды напоминал о поездке в Сахалян, пытался выяснить, помню ли я о резиденте из Благовещенска. Первый раз подошел к этому издалека и ничего не добился. Интерес Янагиты к прошлому был настолько неожиданным, что озадачил меня, и я из тактических соображений прикинулся забывчивым. Мне надо было узнать, что беспокоит шефа. Но лишь наивный человек мог надеяться на откровенность Янагиты — он не раскрывался ни при каких обстоятельствах. Это был сам Янагита, со своей вечной тайной. Я оказался перед закрытой дверью.
Второй раз генерал-лейтенант совершил открытое нападение. Он сказал: «Сигэки-сан, мне известна ваша феноменальная память, потрудитесь напрячь ее!» Ему зачем-то нужен был резидент или, вернее, моя мысленная фотография «гостя» с левого берега. Инстинктивно я замкнулся. Жестокий огонек в глазах Янагиты напугал меня. Это был знакомый огонек. «Ты ничего не знаешь, — стал я убеждать себя, — абсолютно ничего!» Но как высказать такое шефу? Он никогда не поверит в забывчивость подчиненного, заподозрит обман. А это равносильно приговору.
Не знаю, стоило ли мне умирать из-за какого-то резидента, как умер мой друг Идзитуро Хаяси. Наверное, не стоило. Значит, изображать забывчивость опасно, опасно и признаваться в том, что хорошо помню «гостя» с левого берега. Я избрал полуправду. «Верно, — ответил я шефу, — какого-то человека из Мохэ мы встречали, но разве он был резидентом? Вы назвали его тогда агентом Комуцубары, завербованным фашистской партией Радзаевского». Сначала Янагита открыл глаза в удивлении, потом смежил веки и стал недоверчиво разглядывать меня, будто я был тем самым агентом, которого он пытался воскресить. «Откуда появился катер?» — спросил шеф. «Я увидел его в нескольких метрах от причала. Амур был скрыт дождем и туманом…» «Да, кажется, шел дождь, — согласился Янагита. — В самом деле, шел дождь, на мне был плащ. Серый плащ, который я брал с собой в поездки». — «Я тоже был в плаще. А «гость» приехал в пальто…» — «Вы это помните?» — «Конечно, мне надо было все замечать — такой вы дали мне приказ. Я следил за «гостем» внимательно, особенно за его спутниками. По вашему отношению к «гостю» легко было догадаться, что вы ему не доверяете. Или мне так показалось. Для себя я сделал вывод: агент будет убран!» Глаза Янагиты снова открылись, кажется, он видел все по-новому. Видел то, что я говорил ему. Шефу хотелось верить в это новое. Во всяком случае, оно ему нравилось.