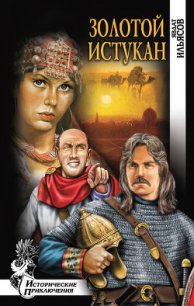Месть Анахиты - Ильясов Явдат Хасанович (читать книги полностью txt) 📗
Царь сказал об этом как о деле уже решенном. Видно, не раз и не два совещался в Газаке царь с другими военачальниками; они все вместе заранее, без Сурхана, и придумали, как вести войну.
То-то Хуруд так гладко излагает их замысел.
Ну что ж, что без Сурхана! Некогда ждать, торопились. Враг у ворот. И много чего происходит в стране без него. План все равно толковый, не возразишь…
Ох! Фромены, армены… Похоже, всю тяжесть войны придется вести бедняге Сурхану.
— Ты как зверь нападешь на Красса сбоку, — продолжал усталый Хуруд, — измотаешь его в мелких бесчисленных стычках, расстроишь его ряды… и тогда отдохнувшее, бодрое главное войско наше, обойдя проклятых фроменов, ударит на них всей мощью.
Он резко процарапал, сдирая стилом воск до тонкого дерева, широкую дугу-стрелу в тыл противника. И выдохся на этом. Ни бодрости, ни мощи в его умирающей голове.
— К твоей тысяче сакских храбрейших латников я добавлю девять тысяч легких конных стрелков и копийщиков. С этими силами ты причинишь фроменам немалый урон. Связным между нами будет Силлак, — царь кивнул в темный угол.
Оттуда выступил маленький невзрачный человек и почтительно поклонился Сурхану. Сак скривился. О Силлаке говорили, что это «око и ухо царя», соглядатай.
Ну, ладно. Сурхан не скажет и не сделает ничего такого, о чем бы стоило донести царю.
— Согласен? Думай. Но думай быстро. Мне, как видишь, трудно сидеть, говорить, и даже слушать…
Вот и все! Обошлось. Пока что.
— Лучше того, что придумал ты, государь, ничего не придумаешь, — улыбнулся благодарный Сурхан. — С какой стороны ни хотел бы нас достать наглый Красс — с юга, севера или еще откуда, я задержу его между Фуратом и Тигром. Но главному войску, — заметил он осторожно, — не следует медлить. Пусть оно, если того пожелает судьба, подоспеет в урочный час.
— Я подоспею.
— И еще, государь. Армянский царь Артавазд фромейцам друг поневоле, силой ему навязали эту нелепую «дружбу». Большой удачей было б для нас договориться с ним по-хорошему и получить от него тысяч десять — пятнадцать воинов смелых.
— Я постараюсь. Стой, куда ты? Сейчас подадут…
— Пусть царь царей простит, но ему известно, что в походе Сурхан не ест и не пьет отдельно от войска.
Сурхан опустился перед царем на колени, царь добродушно погладил Сурхана по склоненной голове. И саку вдруг показалось, что государь ощупывает ее, прикидывая тяжесть…
— Что ж, не медли, ступай, своевольный! — печально вздохнул царь Хуруд Второй. — Я велю поднять меня на носилках на крепостную стену и полюбуюсь сверху, как ты ведешь свое отважное войско…
— Идем, Силлак. — Забрав свой меч, Сурхан с тягостным недоумением поспешил прочь из душного, с гадким запахом помещения наружу, на свежий воздух.
Носилок царю не понадобилось. Повеселевший, бодрый, как всегда, он с усмешкой снял с головы повязку и легко взошел с Пакором наверх, к зубцам крепостной стены.
— Отвязались, — сказал Пакор. — Не стал шуметь и донимать вопросами.
— Да, молод Сурен, горяч. — Царь с улыбкой тронул седые усы. — Пусть и скачет навстречу своей судьбе! А мы подождем в зеленых армянских долинах. Нам не к спеху, верно?
— Красс его проглотит, — вздохнул покорный Пакор.
— Пусть! Мы — Красса. Все равно не прогадаем.
— А если… Сурен разобьет глупого Красса?
— Тем лучше! Тогда мы проглотим беднягу Сурена…
Воины ждали начальника в поле. Он сидел на корточках, намотав на кулаки поводья неоседланных коней. Ни шатров, ни костров. Ни смеха, ни песен. Зубы стиснуты, в глазах угрюмость. Мало ли что… Вот времена! Чужих бойся — бойся и своих…
Разбили одну палатку — для предводителя, и над ней, на высоком древке, мысленно и выжидательно извивался на легком ветру шелковый желтый дракон.
Сурхан явился. Поле, покрытое тысячей «неранимых» — воинов в чешуйчатых крепких доспехах, — всколыхнулось, зашевелилось. Вздох облегчения резким порывом весеннего теплого ветра прошел по войску. Взметнулся, как шорох травы, негромкий довольный говор и стих.
— Эй, Красный!
Навстречу Сурхану спрыгнул с коня у палатки, встал смуглый худой человек с черной повязкой на лбу.
— Ты?! — вскинул руки Сурхан. Он рванул человека с черной повязкой к себе, прижал к могучей груди. — Живой? Ох, как мне тебя не хватало! Ты откуда, где пропадал? Почему на лбу повязка?
— Память о Риме. — Гость сдвинул черную ленту на волосы, и Сурхан прочитал багровую надпись: «Верни беглого Крассу».
— А! — Сурхан всплеснул руками, замотал головой. Взял беглеца за плечи, осторожно поцеловал в клеймо. — Я… он… — Сурхан прослезился. — Хорошо, он тебя увидит. Клянусь, я устрою ему встречу с тобой!
— Непременно, — тихо сказал беглый раб. — Непременно нам нужно встретиться с ним…
— Как ты попал к нему?
— Э! Долго рассказывать. Сперва накорми.
— После! — Сурхан с тревогой оглянулся на крепость. — Угощение оставим на после. Как и все разговоры. Сейчас нам нужно как можно скорее убраться отсюда. Отныне ты мой проводник и советник. Фарнук, дай ему лошадь!
— У тебя что-нибудь не так? — насторожился друг.
— А что в мире так? Все не так, как надо. — В его карих с золотом глазах черной тенью мелькнуло отчаяние.
Сурхан приложил ладони трубой ко рту. Над полем взлетел протяжный, тонкий и хриплый, пронзительный визг. Невыносимо долго, кружась, поднимаясь все выше к небу, звучал раздирающий вопль. Птицы шарахнулись в сторону и заметались над крепостью. Стучали копытами, фыркали кони. У людей на глазах сверкнули слезы.
Нарастая все туже и глубже, перелился в низкий утробный стон, подобный весеннему крику пустынной рыси, но стократ сильнее и громче, и завершился глухим грозным ревом сакский военный клич.
И грозным весенним громом, беспощадным и диким, вбирающим в землю все живое, грянул ответный рев сакской вольной конницы.
Человек с черной повязкой на лбу весь побелел, отчего повязка, казалось, отделилась от его лица и повисла в горячем воздухе. Он вскинул руку ко лбу, к повязке, чтобы сдвинуть ее и отереть обратной стороной ладони с клейма едкий пот, да так и замер, будто что-то вспоминая.
Красс на пути к Зейгме уныло разглядывал и растирал распухший белый мизинец на правой руке.
Сустав постоянно и тупо ноет, — к этому можно привыкнуть, но стоит задеть обо что-нибудь, как в пальце острым беззвучным визгом взметается злая боль.
Кольцо Анахиты вросло в него глубоко, неподвижно и жадно, не снимешь. Привязалось, проклятое! Камень в нем с каждым днем выцветает. Он уже грязно-бурый. Будто палец Красса, как паук, выпил из рубина алый сок. И все равно сам он весь белый…
Тряся в расшатанной повозке отвислыми губами, Красс поносил все на Востоке, жалуясь Публию, сопровождавшему отца верхом:
— Никакого порядка! Лень. Разброд. Бесхозяйственность. И солнце здесь слишком горячее…
— И воздух пыльный, а пыль, — подхватил, морщась, Публий, — ядовитая.
И так далее:
— Русла рек каменисты, дороги ухабисты…
— Вода мутновата, вино горьковато…
— Хлеб грубый, лук едкий…
— Мужчины лживы…
— Женщины похотливы…
К тому же еще — вши, грязь и вонь. Чума и холера. Нет уж, куда хваленому Востоку до чистой и ухоженной Европы.
Они ненавидели местных жителей за слишком темную, по римским понятиям, кожу, и оба согласно не замечали, какой это ладный, на редкость красивый народ. Варвар не может быть красивым! Красив только «хомо романус».
Можно подумать, их кто-то силой заставил тащиться в эту несуразную страну…
Хуже всего: все, что видел здесь старший Красс, отдавало — как утро — резкой пахучей свежестью, опасной в старческом возрасте, ненавистной ему поэзией.
В самой пустыне, зловеще-безмолвной до горизонта, уже таится поэзия, странная, дикая. Голый простор знойных гор и равнин внушает человеку беспокойство и коварно зовет его куда-то вдаль.