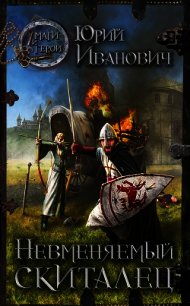Братья - Градинаров Юрий Иванович (серия книг .TXT, .FB2) 📗
На правой щеке у шкипера под густым курчавым волосом шрам, и чуть подрезана мочка уха. Кажется, его сдавила крохотность деревянной баржи после былого морского простора. А он уж пошатался по чужим землям! Бывало, просаживал в иноземных кабаках последний грош. Всегда кулаком отстаивал честь русского матроса. Не раз ходил на нож в чужих тавернах, укрощая разбушевавшуюся французскую или английскую матросню. А потом, убегая от полиции, на ночном извозчике мчался в порт на родное судно. Отходил, отгулял свое! Теперь коротает улегшуюся в единственное тело жизнь, без буйств, без страсти, без простора. Только в трезвых снах нет-нет да и появятся голубой горизонт, море, белый океанский пароход с закопченными трубами и крики чаек, касающихся крылом корабля.
Бывшему шкиперу его императорского величества Российского торгового флота рано подрезали крылья за буйный характер, списали на берег. И подался он со Смоленщины в Сибирь. Третий год по Енисею ходит в низовье на деревянной баржонке-тысячепудовке. Сначала стыдился своей участи, но тельник и кольцо на мочке целого уха носил неизменно. И по барже, и по земле ходил, покачиваясь и широко расставляя ноги, как бы привычно ощущая уходящую из-под них палубу. Тяжко перенес первый рейс в низовье. Пыхтит пароходик, молотит плицами воду, дым из трубы временами отсылает на баржу, душит гарью. Гаврила на плесах встает за штурвал и помогает выравнивать посудину по курсу судна. Да еще при швартовках, сдерживает он штурвалом баржу и становится на якорь на длину буксирного троса. Следит, нет ли в трюме течи, чтобы подмочки товара не было ни на верхней площадке, ни внизу. За три навигации стал своим в доску на каждом станке. Его знают все. Так и зовут Гаврила-шкипер.
Сегодня ему неловко за вчерашнее, хотя мужики все воспринимали пьяными сердцами с сочувствием и пониманием. Сидел он вчера хмельной и плакал. Слезы текли без удержу, так, что он временами не видел сидящих вокруг порожней бочки мужиков с пьяными, но еще кое-что понимающими головами. Он угрюмо уставился в пол, тряс головой, лил слезы, мямлил срамные речи.
– Вам-то легче, окаянные души. Вы, окромя земли, ничего не видели. А не на всякой земле – простор. Вот в море – все новое: и ветры, и волны. По одной и той же волне – дважды на судне не пройдешь. Она раз качнула, на ее место свежая пришла.
Иван Маругин, наверное, лучше других воспринимал услышанное душой:
– Ты прав, Гаврила! Не все земли простором веют. Потому и подались мы со Степаном в низовье. Тундра что твое море. И в море, и в тундре идешь сотни верст, по-вашему – миль, никого не встретишь: ни кораблика, ни чума. Правда, земля устойчивей, чем вода. А пурга сродни шторму. Пароходчики во время шторма по леерам руками ходят, дабы за борт не слететь.
– А ты, молодой, откуда знаешь? Не ходил ли ты в море? Уж больно занозисто говоришь! Или побольнее кольнуть хочешь? Так знай, я бываю злой!
– Встречал, как ты, морских волков! О чем только они не плели! Но все заканчивалось, как и у нас, бражничаньем. Многих, как ты, водка сгубила. Да не на море – на суше! Среди каторжных встречал вашего брата. Много душ они загубили в кабацких драках. И все – в пьяном угаре.
– Да ты на меня не смотри, как на убивца. Я в таких делах грех на душу не брал. Кулаками всегда отмахивался. Эт меня полоснули ножом по щеке, ухо зацепили. Не увернулся. Теперь отметина на всю жизнь.
Он со злостью ударил кулаком по крышке бочки. Зазвенели железные кружки, расписная деревянная ложка Степана скользнула по тарелке с картошкой на пол.
Все трое уставились на шкипера, уловив его звериный взгляд.
– Че шумишь кулаками? Чего стружкой шелестишь? Ты ж не в заморском кабаке иноземцев пужаешь? – спросил Степан. – Я могу кулаком с энтой крышки щепу сделать. Без топора. Одним вот этим. – И он поднял над головой кулак. – Но не позволяю. Силу в гульбище не показываю. Бочку жалко. Она ж у тебя, как стол в избе. И чай пить, и гостей привечать. Жалко! Да и ты в другой раз, при людях, не стучи. Мы, сибиряки, силой добры, но сердцем яры. Себя в обиду не позволяем! Скажи, Димка!
Димка икнул, хлебнул из ведра квасу:
– Ты че-то спросил, Степан Варфоломеевич?
– А ты с похмелья оглох, купчина неокрепший? Я сказал, сибиряки себя в обиду не позволяют. Понял?
– Ну! Не позволяют! – поддакивал не оправившийся после вчерашнего Димка.
До Гаврилы дошло: с кулаком он перестарался. Плотники – люди не боязливые. У Степана – не кулаки – пудовики. Его руками можно подковы гнуть, а он не бахвалится. Сидит, снисходительно посматривая на шкипера. Жалко ему Гаврилу. Знает, тяжко с душой орла сидеть в клетке.
И Иван посочувствовал:
– Я вот слушаю тебя, Гаврила, во хмелю и говорю: скучная теперь жизнь твоя. Ни угла, ни жены. Ты словно флюгер. Со всех сторон ветер обдувает. Негоже такому головастому так жить! У меня да у Степана усадьбы с наделами, женки ладные да детки накладные. Топориком взмахнем – изба высится или лодка по реке движется. Люди благодарят да рубликом золотят, а ты с весны до зимы на этом плавучем островке: куда ни ступни – кругом вода. Хлюпает, бьет по бортам, будто измывается над тобой. Берега верстами плывут, а ты ногой на них не ступишь. Верно, обидно бывает, что не властен ты над собой. А силищи в норове – уйма! Выкинь свою тоску о море за борт! Выпрямись и впитай в себя свежую жизнь! Она ведь красива не только морем.
Гаврила распрямил плечи, расчесал пальцами сбитую в клочки бороду, будто внял словам Ивана:
– Складно, баешь, Иван! Говоришь, выпрямись да впитай! Выпрямиться-то можно, а стержень-то внутри остается тот же. – Он стукнул себя кулаком в грудь. – Он как мачта на паруснике! Развернул на ней паруса – и судно пошло! Остается штурвалить и ветер ловить. Как бы я ни выпрямлялся, как бы я ни впитывал свежую жизнь, все, чем я жил до того, не выветрится из меня. Оно смешается, заклубится, как вода на шиверах, и станет еще свежее. Обогатится новым, что-то примет, что-то отбросит. Мое прошлое со мной до могилы. Другого душа пока не приемлет, как бы ты, Иван, ни наставлял меня. А тоска, я думаю, иссякнет, закроется каждодневной свежестью, как тебе кажется, моих монотонных будней. Для меня на барже – каждый день свеж. Я выучился замечать в их однообразии и новые лица, и оттенки тайги, и причудливые выкрутасы берегов, и молву бурлящей вокруг меня воды. Вот тоску пока не могу держать в узде. Волной она на меня накатывает, будто выносит на приплесины песчинки моей судьбы. И царапают душу мне они, вызывая нойку сердца. За три года моих речных скитаний вижу: и я, и моя баржонка нужны людям. Нас ждут они на каждом станке. А на ней и провизия, и товары, и почта. Я и купцам посильная подмога. Верно, Дмитрий?
– Верно, Гаврила, верно! Купцы – купцами! Люди станков тебя ждут!
– Так что, друга мои, не серчайте! Гаврила нашел себя в море, найдет и на реке. А насчет женушки, Иван, не кори. После этой навигации женюсь. Присмотрел в Енисейске вдовушку. Вроде душой сходимся.
Гаврилу уже никто не слушал. Скоро Дудинское – и за работу! Димка прилег на топчан, а Иван со Стенькой вытянулись на мешках с сахаром. Захрапели.
Шумит за иллюминатором вода, освежает прохладой кубрик. Гаврила поднялся на палубу. На Енисее штиль. Справа остается Грибанов мыс, а далеко впереди, под дугой нависшего над водой тумана, брезжится Дудинское. Он достал часы. «Пожалуй, еще часа четыре ходу». Спустился в кубрик и растолкал спящих.
– Освежитесь забортной водой да ступайте наверх, чтобы хмурь с лиц повыдуло. Правда, ветра на палубе нет.
Мужики нехотя раскачивались.
– Сколько еще ходу, капитан? – спросил Степан.
– Часа три с половиной. Наверное, по снегу соскучились? С угоров еще не сошел. И расщелины белеют по всему правому берегу.
– Тогда часок можно покемарить! – пробормотал Сотников.
– Тебе-то, Дмитрий, надо стоять у рубки, чтобы купец видел, ты в добром здравии, товары везешь по заказу. А то дядя Петр на руку тяжел. Отдубасит при всех, не за понюх табаку. Поднимайся! Вон ведро. Цепляй за бортом воды, чтобы был чистым и опрятным. Вино везешь, но пить не пил. Хотя непьющих приказчиков, кажись, не встречал. Главное, чтобы Сотниковы не учуяли.