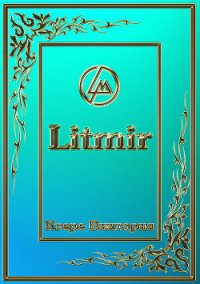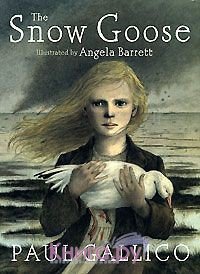Медный гусь - Немец Евгений (е книги .TXT) 📗
Путники сошли на берег, пришвартовали струг, наскоро перекусили. Рожин, подумав, прихватил топор Семена Ремезова. Проверили обмундирование, перекрестились и полезли на склон, цепляясь за сосновые корни и ветки тальника.
Берега Калтысянки заросли можжевельником и брусникой, так что сверху реку можно было и не заметить, оступиться и провалиться в сойму. Разве что неторопливое журчание говорило о том, что где-то под ногами струится вода.
Лес по берегу был не густой, а дальше и вовсе от реки отошел, оставив поляну под заросли иван-чая, еще молодого, не цветущего. Но спустившись с восточного склона Кевавыта, путники уткнулись в совсем уж непроходимую тайгу.
Вековые ели и кедры стояли плотно, плечом к плечу, как стена ратников, а меж ними из земли торчали огромные пни-вывертни, громоздились друг на друга гнилые стволы берез и осин, разбросал спутанные сети ветвей шиповник. Небо налилось сизым и опустилось, осело на верхушки деревьев, наполнив лес сумраком и тревогой. Где-то в глубине утробно ухала неясыть, тарахтели дятлы, словно горох по полу катился, меж высоких ветвей мелькали рыжие беличьи хвосты. И еще то ли чудилось путникам, то ли и вправду было – то тут, то там вспыхивали желтые огоньки волчьих глаз. Это уже и не тайга была вовсе – дремучий урман.
Рожин вынул из ножен тесак и пошел вперед, прорубая себе дорогу в кустарнике. Сотник, стрелец и пресвитер двинулись следом. Мурзинцев держал мушкет в руках, на плечо не вешал. Прохор Пономарев тоже ружье из рук не выпускал, постоянно оглядывался. Отец Никон тихонько бормотал молитву, а левой рукой, не осознавая того, за крест на груди держался.
Часа два пробирались сквозь тайгу, и казалось, конца бурелому не будет. Но затем лес стал редеть и вдруг оборвался болотом. Калтысянка тут бежала по ровному, разлившись широко и насытив низину влагой. Болото ширину имело всего метров сорок, но по длине убегало далеко на юг, огибая Каменный мыс с востока, как ручей. Сходящие по весне снега питали долину, образуя приток Калтысянки. Но к середине лета приток пересыхал, оставляя после себя старицы и илистые топи. Вешние воды, быстрые и сумбурные, тащили из тайги поваленные стволы деревьев, гнилые пни и ветки, которым до реки добраться было не суждено. Таежный мусор застревал меж торфяных кочек, увязал в липкой няше, нагромождался, прел и гнил, насыщая воздух запахом тлена и разложения. Над болтом стоял тяжелый удушливый пар, который проваливался в легкие, как ртуть. Дышать было не просто тяжело – больно.
Прохор Пономарев с надеждой посмотрел на Рожина, но обходить болото возможности не было – одному Господу было ведомо, насколько далеко оно тянется на юг. Толмач кивнул головой в сторону Кевавыта, дескать, неизвестно, где кончается топь, возможно и до вечера не обойдем. Мурзинцев кивнул, с толмачом соглашаясь, задрал епанчу, обмотал ее вокруг головы, так чтобы одни глаза остались. Пресвитер, толмач и стрелец последовали его примеру.
Рожин срубил крепкую ветку и осторожно ступил в мутную жижу. Следом шел отец Никон, за ним Прохор и замыкал цепь Мурзинцев.
Полчаса путники преодолевали болото, иногда проваливаясь по колено, а то и по пояс. От удушливого смрада у них начала кружиться голова и мерещиться чертовщина. Отцу Никону чудилось, что за ноги его что-то хватает, и тогда он громогласно кричал: «Изыди, сатана!» – и яростно колол жижу под ногами посохом. Прошка Пономарев клялся, что пару раз мимо него черное рыло с рогами и розовым пятаком промелькнуло. Да и Мурзинцев однажды ощутил на лице зловонное дыхание какой-то твари, может самого лешего. Только Рожин молчал, упрямо брел вперед – если и ощущал толмач нечисть, то вида не подавал.
Наконец болото закончилось. Дальше сушу покрывал густой осиновый молодняк. Юные деревца росли густо, торчали из земли плотно, как щетина в щетке. Рожин продрался сквозь заросли выше, туда, где болотный смрад отступил и воздух снова стал прозрачным, размотал с головы кушак, в усталости повалился на землю. Следом появился пресвитер, затем сотник.
– Прошка, ты где? – позвал Мурзинцев.
– Иду-иду, – послышался голос стрельца. – Только грязь из башмаков вытряхну…
Вдруг над болотом раздался нечеловеческий вопль, и тут же топь булькнула, словно в грязь бревно плюхнулось, даже туман над болотом покачнулся. Сотник и толмач вскочили на ноги и бросились к берегу.
– Прошка! – заорал Мурзинцев.
Метрах в десяти от берега что-то копошилось в болоте, мелькало, звонко хлюпая в жиже и разбрызгивая вокруг грязь, а над всем этим метались, разрывая туман, душераздирающий человеческий крик и низкий утробный вой какой-то твари.
– Пали! – гаркнул толмач то ли сотнику, то ли стрельцу и сам штуцер поднял, навел его на мельтешащие тени, но угадать, где человек, а где демон, было невозможно.
Мурзинцев прыгнул в болото и сразу увяз по пояс, сыпя проклятиями, побрел на звук. И тут сипло харкнул свинцом мушкет. Низкий вой оборвался, словно его секирой отрубило. Враз стало тихо, и в этой тишине Рожин с Мурзинцевым услышали хрип. Так хрипит существо, которому кровь в горле дышать мешает.
Прохора Пономарева сотник застал еще живым. Стрелец лежал спиной на гнилом бревне, по пояс в жиже. Левая рука стрельца была оторвана по плечо и кровавым обрубком торчала из грязи в паре метрах от хозяина. В груди Прохора зияла огромная рана, а в ней, словно издыхающий лосось после нереста, подергивалось слизкое ало-синее легкое. Кожа со сломанных ребер свешивалась порванным тряпьем. Стрелец харкал кровью, но в правой руке все еще держал мушкет. Из ствола оружия вытекала ленивая струйка дыма и тут же терялась в болотном тумане.
– Анисмч… – прохрипел стрелец. – Я… лешего… порешил…
– Менкв, – тихо заключил Рожин, опустив глаза, чтобы на стрельца не смотреть.
Мурзинцев засунул ладонь стрельцу под голову, второй рукой осторожно, но настойчиво отнял ружье.
– Порешил, брат, справился, – сказал он глухо, склонившись к самому уху Прохора.
– А ты… боялся… что подведу… – едва слышно произнес стрелец.
Прохор больше не чувствовал боли, смерть уже овладела его телом, только губы едва заметно шевелились да во взгляде теплилась жизнь. Стрелец скосил на сотника глаза, и Мурзинцев, глядя в них, мог поклясться, что Прохор улыбается. С этой улыбкой – улыбкой победы над чудовищем и над своим собственным страхом Прохор Пономарев и отбыл в мир иной.
– Не боялся я, брат, – преодолевая спазм в горле, произнес Мурзинцев. – Я знал, что ты не подведешь… Давно знал… Ты не переживай, Прохор, я всем поведаю, как ты лешего одолел.
Толмач нашел убитого менква. Его труп плавал поблизости, то выныривая зеленой макушкой из черной жижи, то погружаясь опять. Перевернув его, Рожин увидел, что левый глаз чудища и скула под ним снесены выстрелом стрелецкого мушкета, – Прохор спустил курок всего один раз, и сразу наповал. Толмач назвал бы это везением, если бы стрелец выжил.
А правый глаз чудища оставался открыт, зрачок сжался в черную продольную линию и смотрел прямо в глаза Рожину. Губы скривились в оскале, обнажив длинные и острые, как наконечники стрел, клыки. И еще, где-то под мутной водой прятались лапы с длинными кинжальными когтями… Рожин, не осознавая, что делает, приложил ствол штуцера к целому глазу менква и спустил курок.
Сотник и толмач вытащили мертвого стрельца на берег, уложили среди юных осиновых побегов, опустились рядом, долго сидели в молчании. Пресвитер над убиенным стрельцом склонился, что-то бормотал, но ни Рожин, ни Мурзинцев этого не замечали. Им обоим одновременно пришла в голову мысль, что никто из этого предприятия живым не выберется, хотя сильно их это не волновало. Сотник думал о том, что судьба у человека одна и обмануть ее невозможно. А толмачу пришла в голову мысль, что главный грех человека – гордыня. Кто такой человек, чтобы лезть в самое сердце Югры, желая познать ее тайны, веками устоявшийся уклад жизни по-своему переиначить? Разве знали князь Черкасских с дьяком Обрютиным, с чем придется столкнуться их подопечным? Разве непутевые стрельцы, пустозвоны и виноохотцы, могли представить, что их посылают демонов воевать? Один Рожин об этом догадывался, но что он мог сделать? Отказаться, кричать-доказывать, что поход этот – гибель? Ну так князь других бы отправил и отправлял бы, пока Медный гусь в Тобольск бы не прибыл. Не могла Россия смириться с тем, что Югра по-прежнему кланяется болванам, что хранят ее балвахвальские боги, а не крест православной церкви. Это тоже судьба, рано или поздно Иисус придет в эти земли и темная тайга Ему поклонится. Только посчитает ли кто людей, чьими трупами вымостится, как бревнами гать, та дорога? Семен Ремезов вписал бы погибших товарищей в свою летопись, да только и его самого Югра сгубила.