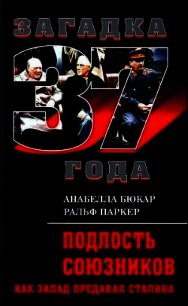В шесть тридцать по токийскому времени - Арбенов Эд. (первая книга TXT) 📗
— Добрый вечер, господа! — Поярков произнес это громко и весело, желая сломить приглушенность и напряженность, которая царила в фанзе.
— Добрый вечер! — отозвался господин в сером. Японец помедлил и потом тихо, словно нехотя, выдавил из себя:
— Здравствуйте!
Какое-то время Поярков и японец изучали друг друга взглядами. Поярков припоминал, не видел ли он где этого коренастого человека с тяжелым взглядом больших раскосых глаз. Японец знакомился с новым агентом, оценивал его. Он верил в непогрешимость первого впечатления.
Неожиданно японец отвел взгляд и торопливо опустился на табурет.
— Вы все объяснили? — бросил он господину в сером.
— Все.
— Условия приняты?
— Да.
Японец повернулся к Пояркову:
— Ваш номер 243.
— Двести сорок три, — повторил Поярков. — Я — Сунгариец!
— Кличка предложена мною, — зачем-то пояснил японец. — Она дана навсегда, как и номер. Мы не любим менять то, что установлено, как и не любим, когда это делают другие.
Большие, строгие и пронизывающие насквозь глаза его остановились на Пояркове.
— Когда нам служат хорошо, мы вознаграждаем, когда изменяют — наказываем. Лично я предпочитаю расстреливать тех, кто проявляет к нам недружелюбие.
Предупреждение было таким грозным и в то же время таким нелепым сейчас, что Поярков не знал, как на него реагировать. Сказать, что принимает условия японца и клянется в верности, не мог. Это унижало его. Изобразить испуг — тем более. Он не боялся японца. Да и нужно ли вообще реагировать на эту напутственную речь шефа. Судя по всему, японец был его шефом. И не только его. Манера держать себя, тон, которым произносились слова, — все говорило о высоте положения японца. Он был, по меньшей мере, руководителем отделения или даже отдела разведывательной службы.
Поярков смолчал. Пусть японец расценит молчание как ему угодно: согласие, клятва, раздумье, испуг. Все.
Видимо, японец выбрал страх. Агент должен бояться расправы, иначе легко нарушит свое обязательство.
— Вы согласны служить на таких условиях?
— Согласен.
— У вас есть какие-нибудь личные мотивы, способные сделать работу за кордоном более полезной и эффективной?
За Пояркова ответил господин в сером:
— Сунгариец потерял все в девятнадцатом году. Его родители расстреляны, собственность отнята. Он лишен офицерского звания.
— Я — подъесаул, — добавил Поярков.
— По возвращении вы получите офицерский чин японской армии, соответствующий вашим заслугам и вашему положению. Надеюсь, он будет не меньшим.
Поярков кивнул благодарно.
— Миссия, которая на вас возлагается, — продолжал японец, — трудна. Она уникальна в некотором смысле и потому не может опираться на чей-то опыт. Мы не способны подсказать вам пути и способы и ограничиваемся лишь постановкой задачи. Остальное зависит от вашего умения. Мы вам гарантируем единственное — связь… И деньги. Столько денег, сколько потребуется для дела.
Поярков снова кивнул, теперь подтверждая, что понял японца.
— Мастерскую придется закрыть, — посоветовал господин в сером.
Японец скривил губы, совет прозвучал не ко времени, он снизил пафос напутствия, приземлил самого напутствующего.
— Да, закрыть… Вы переедете временно в Сахалян.
— Но у меня заказы. Еще не выполненные заказы, — запротестовал Поярков.
— Пустяки! — махнул рукой японец. — Фын, поди сюда!
Из темноты вынырнул Фын, тот самый Веселый Фын, который почти год навещал Пояркова в его мастерской. Он поклонился японцу, так низко поклонился, что едва не коснулся лбом пола:
— Слушаю, господин!
— Твои заказы не выполнил наш гость?
— Мои, господин.
Рассмеяться надо было Пояркову: дурацкую затею Фына он принял за хитрую игру важного господина, за тактический ход японцев. Впрочем, это и был ход, но сделанный с помощью Фына.
— Заплатишь гостю за работу!
— Слушаюсь, господин!
Поярков все-таки рассмеялся. Слишком уж наивно все выглядело, даже глуповато.
— Дарю Фыну и той даме с Цицикарской улицы японские башмачки. У нее очаровательные ножки.
Слава богу, дама с Цицикарской улицы не была женой нынешнего шефа Пояркова, и он никак не оценил комплимент,
— Вы хотите вручить их лично? — хитро улыбнулся господин в сером.
— Да, это доставит мне удовольствие.
Фын, ничего не поняв, полез под свою старую рубаху и вытащил деньги. Протянул, не считая, Пояркову. Видимо, сцена эта была прорепетирована.
Тут уж засмеялся и господин в сером:
— Ты действительно веселый, Фын!
— Я — Веселый Фын! — подтвердил китаец.
Как и в тог вечер у крыльца, Пояркову стало жаль этого хромого человека. Он отвел руку Фына:
— Следовало бы и тебе сшить ботинки… Обещал, да не вышло.
Деньги все еще были в руке Фына, он не знал, как ему с ними поступить. Ждал, видимо, приказа японца. Пожирал его глазами.
Тот не очень ясно представлял себе, что происходит и почему Поярков и господин в сером смеются. Познания его в русском языке были не очень обширными, чтобы уловить тонкости, и он счел самым лучшим для данного момента присоединиться к общему веселью. Он, правда, не рассмеялся, а только улыбнулся, но и этого было достаточно.
— Спрячь свои деньги, Фын! — сказал человек в сером. — Они не нужны.
— Это не мои деньги, — с обидой произнес Фын,
— Теперь стали твоими. Дарят тебе.
— Кто дарит? — Голос Фына дрожал.
Поярков и господин в сером поняли, что китаец уязвлен чем-то и продолжать разговор рискованно.
— Я дарю, — сказал японец.
Фын сразу успокоился и низко, низко поклонился. Он способен был принять деньги только от важного господина.
Японец поднялся с табурета. Это прозвучало как сигнал к окончанию встречи.
— Пусть удача сопутствует вам! — произнес он несколько торжественно. — Я верю в вашу победу, Сунгариец, а значит, и в нашу победу.
Пояркову ничего не оставалось, как протянуть руку и попрощаться с японцем.
— Фын! — крикнул тот, хотя надобности в этом не было: китаец стоял рядом. — Фын, проводи гостя! Из твоего дома без проводника не выберешься… И пусть рикша бежит короткой дорогой. Уже поздно.
Харбин. Последние часы
Надо было покидать Харбин. Десять лет он мечтал о свободе — чужая земля тяготила его, — а когда наступил час расставания, он вдруг загрустил. Привязался, что ли, к этому пестрому, пыльному Харбину, не похожему ни на русский, ни на китайский город, или привык к тревожности, которая окружала его здесь постоянно и стала какой-то необходимостью. Вечное ожидание, вечная напряженность, готовность к действию!
Он тянул с отъездом. Не закрывая мастерскую, отыскивая для японцев и для себя причины такой медлительности. Причин не было, во всяком случае убедительных причин. Какая-то пара чьих-то недошитых сапог. Он сам их, кажется, придумал. Стучал и стучал молотком — это слышали за стеной и у двери, если вдруг проходили близко или останавливались перед вывеской.
Вывеску надо было снять, не вводить в заблуждение харбинцев смешным изображением сапога и туфельки, ведь могло кому-нибудь взбрести в голову заказать себе на зиму обувь. А Поярков не снимал вывеску. Боялся, что тем как бы оборвет свою жизнь именитого в Харбине сапожника. Исчезнет с этой не особенно людной, но известной в городе Биржевой улицы.
Так он объяснял свою медлительность. Иногда словами объяснял, иногда задумчивым взглядом, грустной улыбкой. И его понимали. Естественное, человеческое легко находит отклик. Он мог бы еще сослаться на свои симпатии к официантке «Бомонда», на нежелание расставаться с тем, кто стал чем-то близок и дорог. Это была правда. Ему поверили бы и, возможно, посочувствовали бы — с кем такое не случается! Хотя не сочли бы настоящей причиной симпатию к официантке «Бомонда» для того, чтобы отказаться от переезда и, главное, от службы, которая будто бы ждала Пояркова на новом месте. Впрочем, о Кате Поярков никому не говорил, даже не намекал на существование чувства к красивой казачке. Да и не причина это действительно.