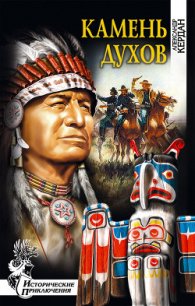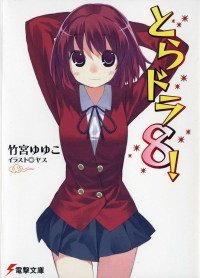Дочь Голубых гор - Лливелин Морган (полные книги txt) 📗
– Нет, этого не может быть. Ты родилась не в племени, почитающем лошадей, ты чужестранка. А чужестранки никогда не могут быть скифами.
– В вашем языке чужестранец и враг обозначаются одним словом, – заметила Эпона.
– Чужестранец и есть враг. Между чужестранцами и скифами всегда была и будет война.
Эпона не могла согласиться с непререкаемостью этого утверждения.
– Почему, Кажак? Кельты живут в мире и торгуют со многими чужеземцами. Мы не ненавидим их, потому что они отличаются от нас. Деревья и животные, например, сильно отличаются от нас, но мы мирно живем рядом с ними, почему же мы должны считать людей, принадлежащих к другим племенам и народам и куда более похожих на нас, чем деревья и животные, своими врагами? – Чужеземцы первыми возненавидели нас, – ответил Кажак, и в его словах прозвучало горькое ожесточение. – Когда-то деды наших дедов жили за много дней пути отсюда на востоке и занимались скотоводством. Но Табити, разгневавшись, спалил места, где они жили. Трава превратилась в пыль, которую унес ветер. Что было делать, куда пойти? Ища новые пастбища, скифы отправлялись на запад, но люди, что там жили, не позволяли нам пасти скот. Животные дохли от голод. Нам оставалось сражаться или умереть, и мы научились сражаться. Выживать в борьбе со всеми другими. Скоро мы захватили все эти новые земли. У нас были большие стада, откормленные, здоровые животные; а наши враги, потерпев поражение, покинули эти места.
Затем опять началась засуха, болезни; мы перекочевали на другое место. Те, кто там жил, сопротивлялись. Мы одержали над ними победу, прогоняли их прочь. Они стали чужеземцами, возненавидели нас, но ведь человек должен кушать. Рождаются маленькие, племя становится больше, всем нужна еда, место для житья. Мы должны жить. Нам ничего не остается, кроме как брать, что нам нужно. Но все другие нас ненавидят, пытаются причинять нам вред. Они враги, которым нельзя доверять. Чужеземцы.
– Значит, я чужеземка, – сказала она.
Кажак избегал встречаться с ней взглядом.
– Да. Так.
– Но ведь наши племена не воюют между собой.
– Пока нет. Но твой народ богат, у него есть много такого, что нужно мой народ. Когда здесь не останется хорошей травы, мы будем откочевать на запад, в долину Дуны, даже в землю твоего народа. Мы будем оставлять стада на равнине, сами целой армией поднимемся в горы. И мы будем забирать ваше золото, ваше железо, ваши головы.
– Мои соплеменники – отважные и сильные воины. Они не пропустят вас в горы.
– Отважные и сильные воины тоже умирают. И люди умирают, как трава, как крепкие лошади. Мы умеем убивать, – напомнил он.
– Вы рискуете навлечь на себя гнев Великого Духа Жизни, – возразила она. – Кроме себя, вы ни за кем не признаете права жить; вы пытаетесь погасить искры, которые живут и в вас.
Кажак упрямо кивнул, отказываясь согласиться с ее доводами. Он напоминал норовистого коня, который сам избирает свой путь, не подчиняясь воле хозяина.
– Мы забираем то, что нам нужно.
Эпона готова была разрыдаться от такого непонимания, но с тех пор, как она стала считать себя скифской женщиной, она запретила себе плакать.
Но ведь она не скифская женщина. Даже не жена.
«Ты кельтская женщина», – сказал ей дух.
«Да, – ответила она мысленно, охваченная какой-то яростной радостью. – И навсегда останусь кельтской женщиной».
Посмотрев на Кажака холодным, строгим взглядом, она процедила сквозь стиснутые зубы:
– Если вы когда-нибудь нападете на мой народ, вы горько пожалеете об этом. У нас даже самых маленьких девочек обучают воинскому искусству. Никто из тех, кто нас знает, не решается нападать на нас. Запомни, скиф: если вы когда-нибудь попытаетесь изгнать нас из нашей страны, кельты утопят вас в собственной крови. – Откинув голову, она засверкала глазами, посылая вызов ему и всему его народу; в ней как будто жил отважный дух всего ее народа.
Кажак скрестил свой взгляд с ее взглядом. Но не как брат с сестрой, а как воин с воином, перед тем как взяться за меч.
– Мы похороним вас всех, – сказал он наконец.
Эти слова вырвались у него против воли, он не хотел их говорить этой женщине. Но они как бы сами сложились у него в голове. Так всегда было, и так всегда будет. Мир – это просто обманчивая иллюзия, такая, какой пользуются, делая свои фокусы, шаманы. Не мир обеспечивал кельтам процветание в их крутых горах. Нет, Эпона сама сказала: они искусные воины, и никто не смеет выступить против них. В этом-то и заключается секрет, в этом и в их магии.
Магия… Меньше всего он хотел настраивать против себя Эпону, сеять между ними отчуждение. Но было уже слишком поздно; он пробовал оправдываться, но его оправдания звучали неуклюже, жесты не убеждали.
Эпона приняла надменный вид и повернулась к нему спиной, не желая продолжать этот разговор.
– Завтра Кажак приведет из стада твоего рыжего мерина, – пообещал он. – Утром Эпона может ехать на прогулку. Куда захочет. – Он заискивающе улыбнулся, но она ничего не ответила, не желая даже смотреть на него.
Неприятности, неприятности, ничего кроме неприятностей; от женщин всегда неприятности, когда к ним привязываешься… почему он так привязался к этой женщине? Это что, кельтская магия? Может быть, она приворожила его? Не пойти ли к шаманам, чтобы они сняли с него этот приворот?
Кажак покачал головой в сдержанной ярости. Нет, только свяжись с шаманами, и они облепят тебя, как пиявки в болоте, тогда от них уже не отделаешься. Неизвестно, что хуже: лечение или болезнь. Эпона должна была стать оружием против шаманов, а не наоборот… все так перепутывается, когда связываешься с этими кельтами. Но он не может допустить, чтобы она стала его врагом, это было бы опасной ошибкой. Она может отомстить ему…
Она может замкнуться в себе, этот ее дух скроется от него и никогда уже не покажется, улыбаясь, из ее глаз. И он, Кажак, снова окажется в том же глубоком одиночестве, в котором он жил до встречи с Эпоной. Но тогда это не удручало его, он просто не знал, что одинок.
Но теперь-то он знал. На душе у него будет так же сумеречно, как бывает зимними вечерами в Море Травы.
Он попробовал заговорить с ней, как-нибудь исправить свои неосторожные слова, но не мог. Все, что он говорил, только усугубляло гнев Эпоны. В конце концов, потерпев полное поражение, он покинул шатер.
После его ухода Эпона, повернувшись, посмотрела на место, где он только что стоял. «Кельты переживут скифов, – мысленно сказала она ему. – Вам не удастся погрести нас».
Утром она нашла своего рыжего стреноженного мерина около шатра; на нем было новое седло, украшенное красными кисточками из конского волоса и круглыми кожаными пластинками с изображением хищников, раздирающих когтями и пожирающих свою добычу.
Эпона даже не оглянулась, не посмотрела, не наблюдает ли за ней Кажак. Она сняла треногу и вскочила на лошадь, соскучившись по быстрой езде и открытым равнинам.
Уходящая зима превратила степь в море грязи. Вдалеке она видела пастухов среди огромного стада лошадей, крупного рогатого скота, овец и коз, разбредшихся вплоть до самого горизонта. Это общее стадо надо было разбить на более мелкие, легче поддающиеся управлению, и прежде чем племя оставило свое зимнее кочевье, их следует еще распределить между отдельными семьями.
Каждый человек вместе со своими женами должен взять полагающуюся ему часть животных, пасти их всю весну и лето, а к зиме вернуть Колексесу более откормленными, чем они были. Пастухи могли обменивать лошадей на лучших, могли увеличивать количество скота воровством и набегами, могли есть мясо животных, пить молоко кобыл, прясть овечью и козью шерсть. Но каждое животное в конечном счете принадлежало князю и за него надо было отчитываться. Каждое новорожденное животное надо было пометить княжеским клеймом и показать ему осенью, чтобы он знал размеры своего богатства.
Человек, чье стадо уменьшалось, получал на следующий год меньшее количество животных, беднел. Мужчина же, у которого оставалось всего несколько лошадей или не было овец, не мог содержать много жен, не мог иметь много детей. Более того, он даже не мог считаться мужчиной.