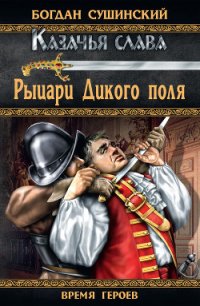Жребий викинга - Сушинский Богдан Иванович (версия книг .txt) 📗
Это стало вызывать возмущение не только у крестьян и ремесленников, но и у отдельных ярлов, часть из которых затеяла бунт, пользуясь при этом поддержкой Швеции. И тогда Гаральд ввязался в столь же бессмысленную войну со шведами [109], во главе которой находилась самая близкая — его и королевы Елизаветы — родня. Причем эта война длилась еще почти два года после того, как в 1063 году Гаральд в битве, происходившей на берегу шведского озера Венерн, истребил большое войско шведов и союзных им уппландцев.
Несколько раз Елизавета пыталась убедить Гаральда, что его стремление во что бы то ни стало объединить под одной короной все племена и земли норманнов граничит с безумием; что Норвегия слишком слаба, чтобы силой меча заставить соседние народы покориться себе, и что вообще ему, Гаральду, сие не дано, ибо не его это миссия на этой земле. Все эти попытки ни к чему не привели.
— Вот увидишь, — в сердцах сказала как-то Елизавете неугомонная Настаська, — наш норманн довоюется до того, что не будет нам с тобой места ни в Норвегии, ни в Швеции, и придется все-таки бежать в хранимую Богом Ладогу. Вот тогда-то и поблагодаришь свою Настаську, что надоумила заложить в этой крепости большой теплый дом, как раз такой, о каком мечтает на старости лет всякая королева.
— Особенно рано овдовевшая… — спокойно уточнила Елизавета.
По пути к Варяжскому морю они с Гаральдом остановились в Новгороде, а затем оттуда отправились к крепости Ладога, построенной на берегу Ладожского озера. Владелицей этого города, значительную часть населения которого составляли шведы, норвежцы и финны, а гарнизон почти полностью состоял из норманнов, все еще оставалась великая княгиня Ингигерда. Находясь под покровительством не только новгородского и киевского князей, но и всех правителей норманнов, Ладога, которая еще недавно была всего лишь укрепленным рыбацким поселком, теперь быстро превращалась в портовый, купеческий город-крепость.
В первый же день появления в нем Настаська мечтательно произнесла: «Если это город твоей матери, то почему бы тебе не заложить здесь свой дом — большой, крепкий, каменный, досками обшитый? Как этот, в который вас поселил местный посадник? Родители твои смертны, в Киеве будет править другой князь, и однажды случится так, что и ты, и мы при тебе останемся бездомными. И вот тогда-то и вспомнишь о доме в Ладоге. Все равно ведь роднее, нежели Русская, земли у тебя, конунгша, не будет. Деньги у тебя пока что водятся. А строительных дел мастера, из франков, я уже присмотрела, Германом его зовут. Так вот, Герман сам наймет людей, сам возведет для тебя дом, а для себя пристройку, в которой останется нас дожидаться да годы свои доживать».
О существовании недавно прибившегося в Ладогу мастера-франка, скорее всего, беглого, с которым Настаська уже успела загулять, Елизавета знала. Он как раз завершал строительство основательного, каменного, смахивающего на небольшой замок, дома для местного купца. Она специально осмотрела этот дом, познакомилась с тридцатилетним мастером и повелела: «Построишь для меня такой же — только чуть больше и утонченнее. С двумя пристройками — для моей прислуги и для самого себя. Завтра скажешь, сколько тебе понадобится денег».
Когда кортеж конунга Гаральда покидал Ладогу, мастер Герман уже начал закладку своего Елизавет-замка, как назывался этот особняк на берегу реки в его чертеже.
Прошли годы. У Елизаветы появилось двое детей, она металась между столицами Норвегии и Швеции, пребывая в постоянной тревоге за своих дочерей, за воинственного супруга, за будущее теперь уже одинаково близких ей двух норманнских стран. И как-то уж так случилось, что о своем далеком Елизавет-замке она попросту забыла.
— Как думаешь, твой мастер Герман дом наш достроил? — спросила теперь королева Настаську.
— Зачем гадать? Я ведь разговор о нем не зря завела. Завтра из Осло купцы новгородские уходят. Если отпустишь к ним душу отвести, одного из них я превращу в твоего гонца. Немножко приплатим ему, так он и в Ладоге побывает, и весточку пришлет.
Весть пришла очень скоро вместе с вернувшимся в Норвегию отрядом норманнов, бывших новгородских наемников. Их предводитель и привез письмо от Германа, который сообщал, что королевский Елизавет-замок давно ждет свою хозяйку. Выделенные ему королевой деньги кончились, однако несколько комнат он все же уставил мебелью, которую смастерили уже за его счет.
— Как видишь, «спасенная» обитель наша уже готова принять нас, — почти восторженно отозвалась на эту весточку неугомонная, безбожно затосковавшая по родине Настаська.
32
Замок Олафборг — пока еще недостроенный, с едва наметившимися оборонительными башнями и обводной стеной — возвышался на вершине скалистого плато, словно островное жилище смотрителя маяка — посреди океана. Заложенный по приказу Гаральда в числе первых строений портового селения Осло, к которому сам король относился как к будущей столице Великой Норвегии, он в течение всех этих шестнадцати лет оставался символом мирных государственных хлопот молодого правителя и в то же время свидетелем того, что конунгу конунгов все-таки больше средств и усилий приходилось тратить на изнурительные воинские походы, нежели на изнурительный труд мастеров, многие из которых тоже куда охотнее брались за меч, нежели за мастерок.
Тем не менее ритуальный и каминный залы, а также добрый десяток небольших, а потому довольно теплых помещений, которые отводились под опочивальни короля и его семейства, уже были завершены. И хотя обставлены они были по-норманнски простой, грубо сработанной мебелью, в которой не проявлялось ни намека на роскошь римских или краковских дворцов, зато полы и стены были старательно обшиты досками и максимально утеплены войлочными настилами и коврами.
Это там, на берегах теплого Днепра, посреди усеянных цветами лугов, Елизавета в какое-то время вдруг осознала себя норманнкой. Тому было много причин: рассказы матери-шведки и королевы-вдовы Астризесс; увлечение норманнскими сагами, ожидание свадьбы с норвежским принцем…
Здесь же она упорно осознавала себя русинкой, причем проявлялось это не только в невосприятии норманнского климата и норвежских пейзажей, но и в непреодолимом влечении к языку, к сказаниям, к самому духу родины, любовь к которой она, по мере возможности, пыталась привить и своим дочерям.
Да, взращенная теплой Русью, королева Елизавета Ярославна так и не смогла ни привыкнуть к климату Норвегии, ни хоть как-то приспособиться к нему. Зиму, днем и ночью оставаясь в мехах, она еще переносила более или менее легко, но вот летом, когда от мехов приходилось отказываться, холодные дожди и пронизывающие северные ветры буквально изводили ее. Но дело даже не в этом. Внутренне, в глубине души, она и не желала приспосабливаться к жизни в этой стране, к обычаям и нравам этого народа.
С годами королева все явственнее ощущала себя человеком, которого во всех отношениях холодная для нее земля норманнов, с ее невыносимым климатом, неотвратимо губит. Даже здесь, на юге страны, на берегах относительно теплого, по местным представлениям, Осло-Фьорда, она теперь, в конце августа, умудрялась промерзать, что называется, до костей.
Не зря же при дворе Гаральда — кто добродушно, а кто с циничной снисходительностью — подшучивали, что Елисифи следовало бы стать королевой сарацинов на берегах Северной Африки, а не норманнов — на берегах Северного моря.
Вот и сейчас, стоя на закате солнца на смотровой галерее ритуального зала, королева, довольно тепло одетая, вдруг ощутила, что северный ветер, прорывающийся сквозь горную гряду, буквально обжигает ее. Правда, как только Елизавета почувствовала это, тут же появился верный паж и телохранитель Радомир, чтобы набросить ей на плечи расшитый красочными узорами кожушок, недавно подаренный русскими купцами. В свое время купцы из этой далекой земли передавали ей подарки отца, и хотя князя Ярослава давно не было среди живых [110], они, по какой-то своей традиции, продолжали привозить ей «подарки отца», зная при этом, что за любую вещь, «подаренную» королеве, будут щедро вознаграждены.
109
Речь идет о войне между Норвегией и Швецией, которая проходила в 1063–1065 годах и инициатором которой выступил норвежский король Гаральд Суровый.
110
Описываемые события происходят в августе 1066 года, в то время как великий князь Ярослав Мудрый умер 20 февраля 1054 года, о чем сообщает, в частности, надпись на стене Софийского собора в Киеве, в котором он похоронен.