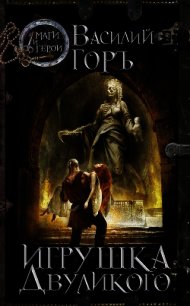Час двуликого - Чебалин Евгений Васильевич (чтение книг .txt) 📗
Голос его приглушенно, бархатно рокотал под низким сводом. Из белого свертка на дне кровати немо таращились на него два сизых, цвета незрелой сливы, глаза. Сулико потрясенно слушала. Быков выводил округло и нежно:

— О-о-о, если б навеки так бы-ыло-о! — показал Сулико на мокрые пеленки: мол, иди выстирай. Когда захлопнулась за ней дверь, Быков, покачивая кровать, обернулся, сказал через плечо шепотом, со страшной силой: — Хватит слизью исходить, Гваридзе! Что ж вы себя и семейство свое казните! Новая жизнь идет, не остановить ее! И от нас с вами зависит в чем-то, быть Грузии свободной либо Антантой распятой и обесчещенной!
Ночью по мощенному булыжником двору опять бегало засидевшееся начальство, и часовой отдавал им честь на каждом круге.
Фыркая и плескаясь потом у колодезного сруба, Андреев ахал и удивлялся:
— Ну Быков! Надо же такое придумать! Благодать! Как на свет народился!
Быков лил из ведра в подставленные ладони, довольно жмурился, поддакивал.
29
Омара Митцинского взяли у подножия перевала ночью и привезли в ЧК. Аврамов, отправив по домам бойцов и Софью, все ходил по двору, подрагивая от нервного озноба, перебирал в памяти только что пережитое — необъятную, сумрачную тишь, окутавшую горы, сладковатый запах керосина, которым облили кучи хвороста. Потом сверху, с перевала, едва различимые, зашелестели шаги... один за другим, след в след.
Их сразу услышала вся цепь, полукольцом замкнувшая тропу, что вела с перевала. И Аврамов почуял, как тяжело, упруго заколотило в грудь сердце. И когда его пронзительный, долгий крик «к бо-о-о-ю-у-у-у!» вспорол темень и затеплились полукольцом, стремительно разгораясь, костры, — лишь тогда он осознал, что, кажется, состоится задуманное, а опасение, что всегда жжет, испепеляет перед любой операцией, осело и поуспокоилось, уступив место жестокой, обостренной готовности к бою.
...Двое, освещенные жирным пламенем, слепо моргали, медленно тянули вверх руки, а третий, невысокий, юркий, стреляя раз за разом в зыбкие сполохи костров, метнулся к огненному кольцу, заслоняясь ладонью, и там, уже на границе света и тьмы, его подсекли и навалились сразу пятеро, и потек оттуда рваный, надсадный рык, кряхтенье и тупые удары. Аврамов упругими скачками несся к схватке, успев ухватить боковым взором, что двое, поднявшие руки, уже окружены и их вяжут.
Заново переживая моменты операции, не переставал дивиться Аврамов уже свершившемуся, ибо раз на сотню встречается такое, чтобы с самого начала шло все как задумано, без единой царапины, а брали ведь не новичка желторотого, а матерого зверя.
И вот теперь, когда закордонный гость перешел в распоряжение начальства и приноравливаются к нему, там, наверху, вдруг осознал Аврамов фартовое свое везенье.
Поэтому все медлил и тянул с уходом домой, поглядывал на освещенные окна быковского кабинета и чувствовал, как теплится и расползается в груди тихая радость, оттого что жив, все кончилось, а невредимая и желанная Софьюшка уже дома и накрывает стол для него, Аврамова.
Быков сочувственно смотрел на сидящего:
— Подобьем итоги, Омар Алиевич. Константинополь и вся ваша деятельность во славу турок невозвратно позади. Вы в ЧК. И у вас два варианта: закатить мне истерику, разыграть оскорбленную невинность либо молчать. Поскольку мужчина вы собою видный, представительный и с самим великим визирем да с Антантою дела имели, то бабиться в истерике не станете. Так?
— Так, — медленно согласился Митцинский.
— Тогда поиграем в молчанку, — предложил Быков, — о делах пока ни слова, тем более что мы о них немало наслышаны. Но вот одна сущая безделица. Любопытство меня заедает: кой дьявол понесло вас через перевал? Вы же намеревались въехать через Батум с нашей визой, с комфортом. К чему такое неудобство и спешка?
— Не терпелось вас повидать. — Митцинский раздвинул губы в улыбке, поморщился — багровел на скуле синяк, заплывал припухлостью глаз. — Анекдоты про вас бродят, Быков: куколка управляет ЧК. Экий вы кукольный, Евграф Степанович.
Быков качнул головой, примерзла к тонким губам улыбка.
— Ростом не вышел — что верно, то верно. В папашу я. Живет в Перми беленький старичок-лесовичок. Согнуло его небось теперь с голодухи. Видно, под старость опять пешком под стол заходит. — Спросил без перехода, так и не согнав с лица примерзшей улыбки: — Что вы от жизни ждете, Омар-хаджи?
— Вашей смерти, Быков, — быстро ответил Митцинский — видно, давно и прочно засел в нем ответ, и был он искренним. — Я жду от бытия смерти всех куколок наподобие вас и всего кукольного государства за вашей спиной.
Надолго замолчал Быков, смотрел на Митцинского в упор — льдистой, стальной синевой наливались глаза. Враг желал его смерти — не ново, не привыкать. Предстояло определить другое — долго ли будет в упор выстреливаться желание это?
И чем больше приглядывался Быков, тем сильнее крепла в нем уверенность: этот, напротив сидящий, отговорился вчистую и не добыть теперь из него ни вреда, ни пользы — закаменел в ненависти. Однако вскоре стала зреть в Быкове надежда, что из ненависти этой кое-что выжать все-таки можно, если с умом дело повести.
— Серьезные у вас желания, Омар Алиевич. Только, знаете, не верится в них. Сдается мне, что и слова ваши, и крутая грудь, и осанка — ненадолго все это, поскольку футлярчик хитиновый. Жучок живой из него выполз, а внутри пусто. Стоит чуть придавить — кр-р-рак! — и хрустнете, расколетесь. А? И в том, что смерти моей желаете, публично раскаетесь и даже, позвольте заверить, слезу покаянную пустите. Хотите пари?
Фотограф принес еще влажную фотографию Омара Митцинского. Быков кивком поблагодарил, отпустил. Стал всматриваться в лицо Омара, сравнивая с фотографией.
— Куколка... — устало сказал Митцинский, — не старайтесь, куколка.
— А не верю я в ваше постоянство оттого, — твердо, с силой перебил Быков, — оттого не верю, что за моей спиной миллиарды человеческие. И те, что в земле истлели, — они тоже за моей спиной. Они все в массе своей исповедовали истины житейские: не убий, не укради, в поте лица добудь хлеб свой. А за вашей спиной, Омар Алиевич, жменька, кучка по сравнению с моими, и ваши-то как раз грабили, убивали и попирали хлеба, сеянные в поте. По логике истории и разума в конечном счете всегда торжествует добро и те истины, что мои исповедуют миллиарды. Иначе мы все давно в первобытное состояние вернулись бы.
— Говорим недолго, а скучно стало. С чего бы это? Человечек вы как будто занятный, — задрожал скулами, сдерживая зевоту, Митцинский,
— Зевается вам не от скуки, — беспощадно сказал Быков, — от страха изволите зевать, Митцинский. А страшно потому, что неправедно жили и грабителем на родину свою ломитесь. Да еще и захребетников турецких за собой маните. Неправда — она ведь кислотой в каждом из вас плещется и сердце с разумом разъедает. Оттого и непрочность ваша.
Говорите, смерти моей и всего государства желаете? Вы бы зафиксировали все это на бумаге. А я вас потом носом ткну в это изречение, когда каяться станете.
— Что, новые методы появились? Иголки под ногти, плети, железо каленое — это я ведь выдержу.
— Экая чушь, — поморщился Быков, — прямо-таки собачья чушь, Омар Алиевич. Я вас логикой достану, позицией своей праведной, большевистской, поскольку говорил я вам — миллиарды за моей спиной. Ну так как? Доверите бумаге желания свои, чтобы потом раскаяться и ужаснуться им?
— Дайте бумагу! — ненавистно, шепотом выдохнул Митцинский.
— Извольте. И по возможности разборчивей, крупнее. Пишите: жду... смерти... Быкова... и кукольного государства его.