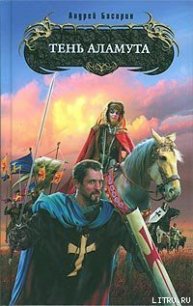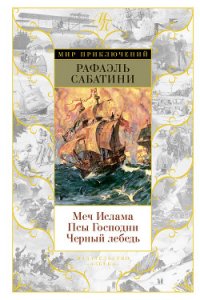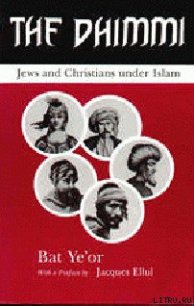Тень ислама - Эберхард Изабелла (читать полную версию книги .TXT) 📗
Но старый, добрый дед немногим пережил Наталию Мердер.
Изабелла Эбергард отныне ничем не связана с Европой… Дед оставил ей небольшое состояние. Она свободно может идти тем путем, на который ее так звал «этот великий, влекущий нас туда сфинкс».
Она приняла решение с присущей ей «необычайной быстротой». «4-го июня 1899 года, — пишет ее французский биограф, — она выезжает из Женевы. 14-го июня она в Тунисе. 8-го июля она двинулась в путь в Южный Константин [28]. 12-го июля мы находим ее в Тимгаде „завтракающей и отдыхающей под аркой Траяна“ и спустя два дня в Бискре. Она хочет ехать дальше, достичь великой пустыни».
«Жадная к неизвестному и к скитальческой жизни», — так она говорит о себе в коротенькой автобиографии, — Изабелла Эбергард объезжает верхом Тунис, восток Алжира и константинскую Сахару. «Ради большого удобства и эстетики» она одевается в костюм араба.
Прекрасно говорящая по-арабски, мусульманка, знающая всю мудрость Корана, она — для внешнего же мира, вернее, он — пользуется полным доверием кочевых племен, их шейхов, религиозных братств и их святых — «марабутов», перед ней открываются все тайны жизни североафриканских, исповедующих ислам народов.
Это свое первое путешествие в Сахару, к неумолимо влекущему ее Югу, она совершает или одна, или в компании случайных туземных спутников.
О том, что она женщина, знают только французские военные власти. Правда, Изабелла Эбергард могла бы отправиться с караваном капитана Сюсбиеля, но, зная суровое обращение этого офицера с туземцами, она отказалась от так облегчающей путешествие возможности. Ибо, «желая изучить нравы Юга», она не хотела лишать себя симпатий туземцев, что неминуемо произошло бы, если бы она ехала с отрядом Сюсбиеля.
Было условлено, что она молодой «талеб», тунисский ученый, путешествующий с научною целью и желающий посетить зауйи [29] Юга.
Но уже в Бискре начальник так называемого «арабского бюро», подполковник Фридель, спросил ее: не методистка ли она? Узнав, что она русская и мусульманка, он не понял ничего. Здесь впервые по отношению к Изабелле Эбергард зародилось у местных военных властей какое-то нелепое подозрение, сказавшееся чреватыми последствиями.
Пустыня с ее оазисами, окруженными пальмовыми рощами, с высохшими солеными озерами — в одном из них она чуть было не погибла вместе с конем, — с фантастическими миражами, с настоящими, но также фантастическими городами, с ночевками то под открытым небом, то в bordji, полных скорпионов, то с караванами, с разговорами со случайными спутниками: берберами, арабами и неграми, солдатами из дисциплинарных батальонов и Легиона, со днями перемежающейся лихорадки, приводившей к ней среди песчаных дюн и сказочных оазисов вереницы причудливых образов, с часами восхода солнца и с изумительными «могребами» — часы захода — произвела неизгладимое впечатление на Изабеллу Эбергард.
Одним из самых для нее пленительных моментов был ее въезд в древний Элуэд.
Возможно ли не пережить вместе с ней волнения, перечитывая строки, посвященные ею описанию этого момента:
«В безоблачном небе бесконечной лазурной прозрачности солнце склонялось к горизонту, и еще видны были серые дома и темные финиковые пальмы Кас-р-Куинина, выступающие на розовой необъятности песков.
…Внезапно, резким усилием захватывающего дух галопа, конь ее взнесся на вершину отделяющей Куинин от Элуэда высокой дюны.
Тогда перед ее восхищенными глазами прошло зрелище, единственное и незабываемое, — видение древнего, сказочного Востока. Посредине огромной долины, из белой переходящей в лиловато-серую, в темной растительности садов возвышался большой белый город.
И белоснежный в лоне этой ахроматической долины город казался воздушным и светящимся в текучей безмерности земли и неба. Без единой серой крыши, без единой дымящейся трубы Элуэд явился перед нею зачарованным городом отлетевших веков примитивного Ислама, молочной жемчужиной, вправленной в атласный, отливающий перламутром экран пустыни.
Ей не хватило бы никаких слов, чтобы выразить опьяняющий восторг этого зрелища, опьяняющего, эфемерного и бесконечно меланхоличного.
Теперь она медленно приближалась к нему вдоль полосы невозделанной земли. Множество небольших серых плит, упавших и склонившихся в песке, свидетельствовало, что тут место вечного упокоения Правоверных.
И вот в безмерном молчании этого города, казавшегося мертвым и необитаемым, словно с горных вершин спустились голоса, голоса, раздавшиеся в то же мгновение и в том же напеве надземной печали от границ черного Судана через столько континентов и морей до безбрежности Тихого океана, вызывая бессмертное воспоминание, святое такому множеству людей таких противоположных и так друг на друга непохожих рас.
Но уже другой, более протяжный и более размеренный голос поднялся из засыпанной песком, извилистой улицы.
Там, из ограды, тихо вышла далеко видимая, сосредоточенная и печальная вереница мужчин в белых и черных бурнусах и в красных плащах спаги.
Вначале почтенные старцы, старые головы в тюрбанах, головы, в которых не зарождалась никогда мысль сомнения или возмущения против божественной воли.
Затем показалось несомое на крепких плечах шести бронзовых, почти черных „суафа“, на носилках, прикрытых белой тканью, что-то удлиненное, недвижное в холодной окоченелости смерти. И потом еще и еще белые и черные фигуры.
Из группы стариков поднималось псалмопение, утверждавшее неизбежность Рока, тщету эфемерных благ мира и превосходство смерти, триумфально входящей в бессмертие:
„Вот, Господи, твой служитель, сын твоих слуг, ради мрака могилы покинувший сегодня мир, в котором он оставляет всех любивших его… И он свидетельствовал, что нет Бога, кроме тебя, и Магомет пророк Твой. Ты же Отпуститель грехов и Милосердный…“.
В погребальной долине два человека рыли в сухом песке глубокую яму.
И когда тело было положено в землю, лицом обернутое к стране, где находится Мекка, и прикрыто зелеными пальмами, тихо потек белый песок, покрывая навеки то, что заключало душу мусульманина, душу простого земледельца, суфи, человека малого знания и большой веры.
Потом белая вереница тихо пошла, унося с собой пустые носилки, обратно в город, в безропотном ожидании каждого возвращения сюда вновь в час, назначенный „мектубом“, на этих самых носилках, провожаемых теми же тысячелетними жестами и теми же литаниями непоколебимого постоянства.
И этот проход погребального шествия, чью невыразимую прелесть не омрачила ни одна зловещая тень, внес в ее чуждое сердце глубокий мир…»
Я нарочно заменил повсюду в этой очаровательной картине местоимения: он, его, — ею и она. И, действительно, в ней Изабелла Эбергард описывает себя, только себя перед ликом пустыни и перед ликом смерти, перед ликом мусульманской смерти, так слитно, так полно сливающейся с жизнью, пред ликом бескрайней пустыни, где человеческое существо только пылинка, одна из мириад песчинок, вздымаемых ветром.
Всю свою остальную жизнь она помнит о поразившем ее у Элуэда в час «могреба» своею величественною простотой обряде погребения. Она ощутила в этот вечерний час перед древним зачарованным городом пустыни свой Рок, и час, назначенный ей ее «мектубом», неизвестный, но неизбежный, показался ей близким. Она ощутила его близость и знала, что это произойдет именно так, как пел ей однажды Си-Абделали, ученый из Маракеша: