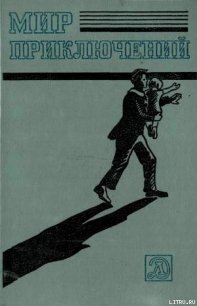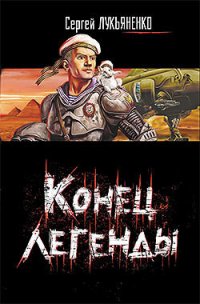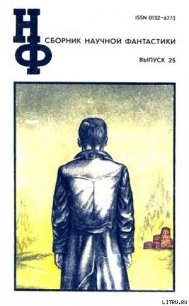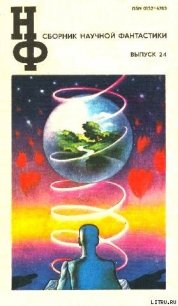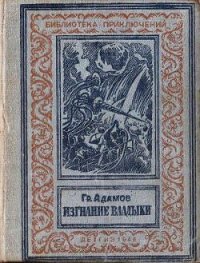В мире фантастики и приключений. Белый камень Эрдени - Брандис Евгений Павлович (читать книги полные .txt) 📗
Иногда я выпускал моих венценосных белянок. Они гонялись, потряхивая своими султанами, как цирковые лошадки. Это продолжалось до тех пор, пока я не посылал радиоимпульс, — тогда они застывали, присаживались на задние лапки, суча передними по своим принюхивающимся носам, и чуть недоуменно посверкивали красными бусинками глаз, потом я заставлял их бежать по кругу. То я бросал их врассыпную — от индуцированного в их душонках страха. Потом нагонял на них жажду, они метались безумно, пока не натыкались на корытце с водой, едва не топя друг друга. Я мог заставить моих мышат, как бы вопреки их воле, спать, прыгать, пищать, жадно есть, несмотря на пресыщение, мерзнуть в жару… Я мог заставить их проделывать все, что хотел, в пространстве. И а общем-то, это давно уже стало трюизмом. Ах, если бы я мог, смог достичь того же во времени!!! Пока это лежало по ту сторону чуда.
Я с головой ушел в свои эксперименты, питался консервами, время от времени взбадривал себя кофе, который разогревал на спиртовке. Мысль зрела в мозгу, как зерно, брошенное в землю, которое должно напитаться соками и взойти, проклюнуться жизнетворным ростком. Впрочем, для этого ее, то есть мысль, нужно иногда оставить наедине с собой. Как бы забыть ее, что ли. Выйти, например, с саперной лопатой посбивать натекшие с крыши сталактиты, сверкающие хрусталем на мартовском солнце. Пойти в лес к незамерзающему ключевому ручейку, шелестящему в нежных пленках припоя, наклониться над ним, присесть на корточки, бездумно глядя на радужную игру сочащихся капель… И вот тогда, вырвавшись из логических постромков, мысль может выдать на выходе из «черного ящика» кое-какие свежие идейки либо повернуть старые в неожиданном ракурсе. Во всяком случае, однажды мне стало безусловно ясно, что первым делом надо попытаться обнаружить две временные точки в семидневном жизненном цикле краснооких принцесс: точку окончания роста (половозрелости) и точку «начала конца» — когда начинает затухать половая железа. Обнаружить две грани отсчета взрослого и цветущего организма. Обнаружить и попробовать «нажать» на них… Вспомнилась исполинская Пальма Тени. Цветет она один раз в жизни. И мне повезло; я видел ее цветение. На вершине в то единственное для нее утро распустилась могучая кисть оранжевого соцветия. Всю свою столетнюю жизнь она готовилась к этому великому торжеству. Знала бы она, что сразу, вслед за цветением, она погибнет на глазах почтенной ученой публики. Облетели лепестки, опустились громадные восьмиметровые листья, сморщился и засох ее ствол… «Ну, а если помешать этому цветению?» — подумалось мне тогда. А это, наверно, возможно. Тогда Пальма Тени сохранит свое «я».
Не сморщится, не засохнет, не погибнет. Но какой ценой! Ценой отказа от любви и материнства!.. Правда, у человека все несколько иначе: сама точка цветения продлилась у него во времени на годы. И прежде чем угаснуть, она способна дать несколько завязей новой жизни! Задержка «цветения» не грозит ему потерей любви!
Семидневные мыши должны были ответить на гамлетовский вопрос: быть или не быть? Быть или не быть бессмертию — не вида, а особи, личности, если говорить о человеке.
Двум беляночкам — самочке и самцу — я вживил по сотне золотых электродов в ту зону мозга, откуда ждал главной команды — в гипоталамус… Собственно, «я вживил» — это лихо сказано. Для того, чтобы провести эгу тончайшую операцию, каждый раз приходилось ездить к знакомому рентгенологу, делать фоторентгенограмму мышиного мозга, затем с ней отправляться в электронно-вычислительный центр, чтобы он на машине рассчитал угол и глубину попадания электродами в нужные клетки мозга. Надо было у ювелира заказать специальный для черепов моих мышат стереотаксический прибор подобие лука, где стрела (протаскивающая электроды) как бы выстреливает в трепанационное отверстие под определенным углом и на определенную глубину.
Наконец настал день, когда я, похоронив моих красноглазых белянок, за семь дней окончивших свое законное земное существование, развернул на полу курзала огромные рулоны записей, как домотканые половики — после мытья полов, и принялся за дешифровку субэнцефалограмм.
Путешествуя по этим коврам с разверткой мышиной жизнедеятельности, я обнаружил, что, во-первых, идет непрерывное нарастание биопотенциала, а во-вторых, каждый день происходит его удвоение. При втором удвоении включается детородная функция, при четвертом — выключается.
Теперь можно было приступить к следующей и самой ответственной серии опытов — коррекции процесса. Я решил послать напряжение на четвертом дне — в момент, так сказать, начала конца.
Мышь, которой было уготовано бессмертие или, по крайней мере, бесконечно долгая жизнь, погибла на пятый день, не дотянув и до своего семидневного предела…
Был четверг. Я хорошо запомнил, что был именно четверг, потому что на свой выходной ко мне должна была приехать Лика. Я сидел над трупиком мыши и ждал Лику.
Я ждал Лику, а ее все не было. Я покормил мышей и отправился встречать ее. На шоссе я ловил ее облик в проеме деревьев, останавливался, прислушивался… Так в тоскливом томлении я добрался до станции. Нарастающим свистом всверливались в мозг электрички, приостанавливались, выбрасывали порции пассажиров и ушлепывали дальше.
Она выскочила из последнего вагона, подставила себя для поцелуя:
— Понимаешь, такая дичь: лопнуло паровое — залило всю кухню…
Я не стал выспрашивать подробностей.
Увидя мышиный трупик, Лика вскрикнула, отскочила..
— Бедный мыш, — сказала она, подходя. Скинула каракульчовую шубку, сдернула черные с розой рукавички и, сев на скамейку, попросила сигарету. Она отломила фильтр и вставила ее в маленький резной мундштук. Закурила. А я думал: откуда у нее эта шуба? Но так и не решился спросить. Курить стала?
— Бедный мыш, — сказала она, глядя снизу вверх сквозь сизость дыма. Ошибка в науке — путь к истине, да? — произнесла как можно мягче, будто дунула ребенку на ушибленное место.
Я так соскучился по ней за три недели, что мне просто расхотелось произносить какие-нибудь слова. Я посадил еe возле топящейся чугунки, сам сел у ее ног. Мне хотелось надышаться ею. Я дул на ее озябшие пальцы, а она подставляла их — каждый отдельно. Целовал ее колени, волосы. Она не отвечала на поцелуи — она принимала их покорно и немножко даже отстраняясь.
— Ты кому-нибудь когда-нибудь протягивала губы или руки, чтобы обнять? — спросил я, слегка уязвленный.
— Никому. — И объяснила: — Мне важно быть убежденной, что я не выпросила любовь, как подаяние.
Я хотел понять ее и поверить. У меня самого было что-то подобное — я тоже не любил навязывать своей любви.
Она заправила распавшиеся волосы за уши, по лицу ее бежала огненная рябь, бровь ее серповидно напряглась:
— Женщины бегут от любви, чтобы поверить в нее.
— Но, может быть, пора мне поверить?..
Она пожала плечами и как-то странно посмотрела вбок. Вынула шпилькой из мундштука остатки пепла.
— Я не знаю… Я не верю, что я тебе буду нужна, как только… Ты все ждешь от меня чего-то, чего-то сверхъестественного, на что я, наверное, неспособна. Чего-то ждешь, требуешь, И даже не замечаешь, как ты деспотичен…
— Это я-то? Который дает тебе полную свободу?
— А может быть, мне не нужна эта свобода? Ты хочешь, чтобы я совсем растворилась в тебе… Я я так порядочная обезьяна — я становлюсь тем, с кем нахожусь…
И вообще… У нас в театре уборщица беременная ходит, и я вдруг замечаю, что начинаю, как она, ходить — живот вперед, спина прямая, боюсь столкнуться с идущими навстречу. Черт знает что…
— Значит, ты гениальная актриса.
— Тебя бы к нам главрежем, — улыбнулась примиряюще.
Лика опять закурила, а я поставил разогреваться тушенку.
— Кто это тебе такой мундштук подарил? — спросил я.
— Лео. На рождение. Разве ты не помнишь? Деревянную пепельницу я мундштук — из Закарпатья привез.
— Он хорошо изучил твой вкус, — сказал я весело.
— Да уж не в пример некоторым, которые считают, что знают меня насквозь, — сказала она тоже с веселой, задиристой ноткой.