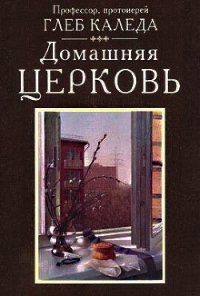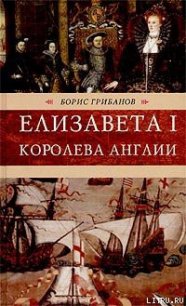Обретение счастья - Вадецкий Борис Александрович (библиотека электронных книг TXT) 📗
Уведомленный о настроениях Торсона, он не боялся при нем говорить откровенно.
Торсон ушел от него, размышляя о событиях, ожидаемых Батеньковым. О них смутно уже приходилось ему слышать от товарищей. Странно, теперь, после случайного разговора с Батеньковым, он находил какую-то связь между грядущими событиями и тем, что ожидало его в плаванье. Словно в самой силе бунтующего духа и в стремлении вывести науку на волю было нечто объединяющее их. Ему довелось прочесть в рукописях, еще до напечатания в «Невском зрителе», сатиру на Аракчеева. Ее написал Рылеев, переделав по-своему стихотворение Милона «К Рубеллию»:
Возмущение вызывал царский указ о военных поселениях, и Рылеев писал о деревнях, лишенных прежней красоты.
Торсон думал о том, в какое страшное для России время он уходит в плаванье. Впрочем, он ничего не хотел бы изменить в своей судьбе и с нетерпением ждал, пока последние приготовления к плаванию будут завершены, царь примет Беллинсгаузена, посетит корабли, и ничто больше не помешает им выйти в море.
В таком настроении он прибыл на корабль и представился Лазареву.
— Вас хорошо знает Беллинсгаузен! — приветливо сказал ему Михаил Петрович.
— Откуда? Мне не приходилось служить под его началом.
Лазарев помолчал. Откуда же тогда идет ранняя слава о молодом офицере? Угадывая его мысли, Торсон тихо произнес:
— Рыбаков хельсинкских в отсутствие команды матросскому делу обучил, на новый корабль принял. Штрафов и наказаний за год не имел. Не это ли помнят?
Действительно, об этом случае на флоте толковали на разные лады! Но фамилию офицера Лазарев не запомнил. Теперь, вспоминая слышанное, он удивился:
— Так это вы были! Почли интересным проводить морские ученья с рыбаками? Или каждого матроса хотели знать, как своего человека? Эту задачу считаю на корабле непременной…
— Что не могу на суше, то властен провести на море! — признался Торсон, что-то не договаривая.
— Как высказали? — переспросил Лазарев.
Торсон в затруднении смотрел на командира, не желая отступать от сказанного и не смея повторить. Он не решался довериться командиру. И хотя ему предстояло два года прожить бок о бок с этим человеком, к которому он питал приязнь, он боялся откровенностью поставить себя и его в неловкое положение: ведь не только командиром «Мирного» был Лазарев, в одном с ним чине, но и представителем Адмиралтейства, «государевым оком»!..
— Начали, так говорите! — усмехнулся Михаил Петрович. — Не хотите ли оказать, что в плаванье вы свободнее в ваших отношениях с людьми, чем в обществе, или у себя в поместье… И ближе, простите меня, к мужику, к народу…
— Вот именно, Михаил Петрович! И доносчиков не увижу. — Он говорил о жандармском корпусе. И, помолчав, добавил неожиданно: — Жаль Головнина нет. А то ведь Крузенштерн считал его самым достойным для начальствования в экспедиции.
— Вот что, Константин Петрович, — заключил Лазарев повеселев, — вы мне ничего не говорите, а выйдем в море — впрямь свободнее станет. Из друзей-то кого поверенным в своих делах оставляете? Слыхал я, семьи у вас нет… А поместье, дом? Кто друг-то ваш столичный и попечитель, от кого рекомендации исходят?
— Кондратий Рылеев! — ответил Торсон с достоинством.
Лазарев наклонил голову.
Об управителе канцелярии Российско-американской компании и поэте Рылееве он был наслышан.
Глава седьмая
В эти дни молодого казанского ученого Симонова, прибывшего в столицу для изучения новых астрономических приборов Шуберта, направили из Академии наук на корабль, идущий к высоким широтам. Астроном был второй раз в столице, питал умилявшую его петербургских друзей почтительность к учреждениям Академии, к Адмиралтейству и, хотя раньше не собирался уходить в плаванье, назначение это принял безропотно, как уготованное ему судьбой. Он не мог даже определить, какое чувство овладело им, когда ему сообщили президентское решение. Готовые было сорваться с языка доводы о том, что в Казани некому будет проводить наблюдения за одной из комет, которая вот-вот должна появиться, что дома ждет его невеста и, наконец, что его до одури укачивает в море, — так и не были произнесены. Он стоял перед большим столом секретаря Академии, украшенным с одной стороны бюстом Коперника, с другой — Ломоносова, глядел в широкое окно на просторную панораму заново отстраивающейся Петербургской стороны, в недавнем Березового острова, на лодки, снующие возле берега, и в мыслях был уже там — оде-то за Южным полюсом. Этот скачок в те приближенные мечтой дали произошел раньше, чем возникли возражения, и родил столько заманчивых, мгновенно окрыляющих представлений, что, забыв обо всем, что следовало возразить, ученый пробормотал:
— Там можно будет изучать звезды, за которыми пятьдесят лет назад наблюдал Лакайль. А изменение колебания ртути в барометре — это как раз то, о чем я недавно писал…
Отдаленное и близкое соединялось. Находящееся где-то в немыслимом отдалении и отчуждении от всего привычного вдруг обрело не зыбкие и расплывчатые, а явственные и осязаемые формы. Ученый даже представил себе установленный на берегу телескоп, который должен проверить заключения Лакайля о звездных отсветах. И восторжествовало давнее, привитое наукой самозабвенное отношение к Академии.
— Когда отправляться в путь? — спросил он.
— Кажется, недели через две, — произнес секретарь, белесый старичок в парике, с узкими плечами, перетянутыми крест-накрест порыжевшими от времени лентами — наградами Екатерины. Ему было жаль астронома и оттого, что нельзя было выразить эту жалость, он стал чрезмерно важным, хмурился и не мог глядеть ученому в лицо.
— Стало быть, не успею ни собрать вещи, ни проститься с домашними?..
— Не успеете, господин Симонов! — согласился секретарь. — Будете в Рио-де-Жанейро, благоволите передать академику Лангсдорфу, что присланные им в музеум предметы испорчены дорогой и выставлены быть не могут. Еще напомните ему о присылке живой обезьяны…
Астроном не слушал. Он думал о другом. В прошлый раз, восемнадцатилетним магистром, благодарный попечителю своему профессору Разумовскому, он приезжал печатать в столице первое свое сочинение о притяжении однородных сфероидов, в котором изложил некоторые пояснения лапласовой небесной механики. На одной из дорожных станций влюбился в дочь смотрителя. Он не думал, почему на людях, на дороге, a не в городе, застигла его эта любовь и почему девушка из всех путников выбрала именно его. Теперь она ждала своего жениха в Казани. Симонова тяготила мысль о том, что ответит смотритель, когда дочь вновь вернется на станцию и скажет, что лишь через два года заедет за ней жених, возвращаясь откуда-то из заокеанья?
— А может быть, я все же успею съездить в Казань? — повторил ученый.
— Туда три недели пути на перекладных по отличной дороге! — снисходительно объяснил секретарь. — Небось, спешите к невесте? Вы молоды, а молодость нетерпелива и горяча. Впрочем, может ли быть сталь нетерпелив человек, отдавший себя звездному пространству?..
Старичок подсмеивался. Маленькая грудь его, увитая лентами, колыхнулась в смехе, и взгляд посветлел.
— Садитесь, молодой человек, — заметил он. — Вы все время стоите предо мной, словно на смотру. Что вас еще интересует?

Астроном знал о секретаре Академии немногое: старик пользовался полным доверием президента, знал на память все труды, адреса и даже родословную российских академиков, вершил дела по канцелярии и принимал молодых ученых. Сам он был архивариус и в этой должности угождал двору изучением материалов о Рюриковичах. Наверное, он мот бы без запинки и с увлечением рассказать Симонову о жизни любой сестры князя Владимира; он считал ее жизнь не менее важной для познаний прошлого, чем наблюдение над звездами для будущего. Может быть, по степени отдаленности этих предметов от жизни, он находил что-то общее между собой и астрономом, и поэтому был особо внимателен к ученому.