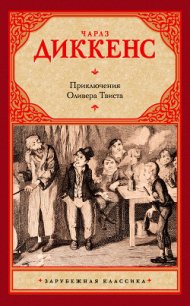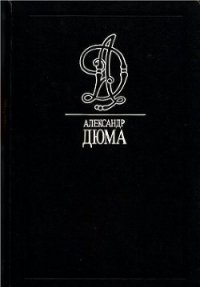Путешествие в Египет - Дюма Александр (книги бесплатно без онлайн .TXT) 📗
- Дромадер,- сказал он, подъехав ко мне,- не такое неудобное и чванливое животное, как лошадь: он может идти без остановок, без еды, без питья; он почти никогда не болеет, не бывает ни усталым, пи изнуренным. Араб издалека слышит рев льва, ржание лошади или крик человека, но, как бы близко ни находился он от своего верблюда, он слышит только его более или менее учащенное дыхание и никогда не слышит ни жалобы, ни стона; если болезнь берет верх, если лишения отняли все силы, если жизнь покидает тело, тогда верблюд опускается на колени, кладет голову на песок и закрывает глаза. И человек сразу все понимает, он спешивается и даже не пытается поднять животное на ноги, ибо, зная честность верблюда, не может заподозрить его ни в обмане, ни в слабости, он отвязывает седло, прикрепляет его на спину другого дромадера и уходит, оставив верблюда, не имеющего сил идти за караваном; когда опускается ночь, на запах сбегаются шакалы и гиены, и от бедного животного остается лишь скелет.
Сейчас мы идем по дороге, ведущей из Каира в Мекку, два раза в год по ней туда и обратно проходят караваны. Вдоль этих многочисленных, все новых и новых останков, которые даже ураганы не в силах разметать по пустыне, можно двигаться без проводника, и они приведут вас к оазисам и колодцам, где вы найдете воду и тень, и, наконец, укажут могилу пророка.
Если внимательно приглядеться, можно различить среди этих останков человеческие скелеты; те, кому они принадлежали, нашли здесь вечный покой, не достигнув конца пути: это кости верующих, которые, повинуясь религиозному порыву, решили последовать заповеди, предписывающей всем правоверным хотя бы раз в ЖИЗНИ совершить путешествие к святым местам, но в вихре удовольствий пли в круговерти дней слишком поздно отправились в путь и завершили паломничество уже на небе. Здесь же можно найти останки какого-нибудь глупого турка или спесивого евнуха, уснувших в неурочный час и разбивших себе голову при падении с верблюда, жертв чумы, унесшей половину каравана, и самума, иногда поглощающего остальных. Зачастую эти зловещие вехи появляются взамен исчезнувших, чтобы указывать сынам путь, по которому шли отцы.
- Однако,- грустно продолжал Бешара, чье обычно радостное настроение с легкостью, присущей его нации, менялось в зависимости от темы, разговора,- не все кости находятся здесь, иногда можно найти скелеты верблюда и седока в пяти или шести лье в стороне от дороги, среди пустыни. А объясняется это тем, что в мае или июне, когда наступает самое жаркое время года, у дромадеров случаются внезапные приступы бешенства. Они отделяются от каравана и галопом мчатся вперед, остановить их невозможно; в этом случае самое разумное - позволить им скакать до тех пор, пока караван не начнет исчезать из виду, потому что иногда они сами останавливаются и послушно возвращаются; в противном же случае, если верблюд продолжает мчаться, то вы рискуете потерять из виду своих спутников, которых потом уже невозможно будет отыскать, тогда не остается другого выхода, как пропороть ему горло копьем или размозжить голову рукояткой пистолета, затем не мешкая догнать караван, поскольку шакалы и гиены подстерегают не только упавших без сил дромадеров, но и заблудившихся путников. Вот почему иногда неподалеку от останков верблюда находят скелет человека.
Я слушал долгий печальный рассказ Бешары, устремив взгляд на дорогу: обилие устилавших ее костей подтверждало его слова; среди этих останков попадались столь древние, что они уже почти обратились в прах и смешались с песком; другие - менее старые - блестели, как слоновая кость; встречались и такие, на которых местами еще уцелели лоскутки иссохшей кожи: должно быть, 'смерть тех, кому они принадлежали, наступила совсем недавно. Мысль о том, что если я сверну себе шею, упав с верблюда (вполне возможное предположение), или если меня поглотит самум (такое тоже здесь случается), или если я умру от болезни (и это может произойти), меня бросят среди дороги, куда той же ночью нагрянут гиены и шакалы, а неделю спустя мои кости будут демонстрировать путешественникам, направляющимся в Мекку, увы, не вселяла в меня радужных надежд. Само собой разумеется, мысли мои обратились к Парижу, к моей пусть крохотной, но такой теплой зимой и прохладной летом комнатке, к друзьям, жившим в этот час своей привычной жизнью, заполненной делами, к спектаклям и балам, которыми я пренебрег, дабы слушать, взгромоздившись на верблюда, фантастические бредни какого-то араба. Я спрашивал себя, какое помутнение рассудка привело меня сюда, что мне здесь нужно и какую цель я преследую; к счастью, в ту минуту, когда я задавал себе эти вопросы, я поднял голову и увидел безбрежный океан песка, красноватый, раскаленный горизонт; я смотрел на караван, на длинноногих верблюдов, на арабов в причудливых одеждах, на всю эту диковинную первобытную природу, словно сотворенную богом, описанную в Библии, и подумал, что в конце концов ради этого не жаль расстаться с парижской грязью и пересечь море, даже рискуя прибавить к скелетам, рассеянным по пустыне, еще один.
Следуя этому неожиданному ходу мыслей, я отрешился от обыденности и забыл о своем теле, за которое так опасался в день отъезда. Я удобно устроился на своем дромадере, словно именно здесь и был произведен на свет, а Бешара, взиравший на мои успехи в верховой езде с гордостью учителя, осыпал меня похвалами. Что касается других арабов, не столь красноречивых, как их товарищ, то они довольствовались тем, что вытягивали руку вперед, показывая большой палец, и говорили мне: "Таиб! Таиб!" - что по-арабски означает высшую степень одобрения и соответствует нашему "прекрасно". Ну а в остальном наши проводники, сохраняя невозмутимый вид, тщательно скрывая неизменное любопытство, ни па минуту не выпускали нас из виду. Они подмечали все - выражение лица, любое движение, самые незаметные знаки, которыми мы обменивались между собой, сколь непонятными для других они бы ни были; и шепотом, взглядами, жестами сразу же сообщали друг другу о своих наблюдениях, в этом они замечательно преуспели. Они так хорошо изучают человека, что его образ навсегда запечатляется в их памяти; говорят, араб, вернувшись в свое племя, так точно описывает путешественника, которого сопровождал или просто встретил в пути, что, если много лет спустя его слушателям случайно доведется встретить этого человека, они тотчас же узнают его, хотя никогда прежде и не видели.
Мы продолжали свой путь: Бешара - напевая, я - грезя. Внезапно в ту минуту, когда солнце начало прятаться за склонами Мукаттама и я смог поднять голову, я различил на горизонте черную точку - дерево пустыни, верстовой столб, делящий дорогу из Каира в Суэц пополам. Это была смоковница, одинокая, как островок в море, и тщетно взор пытается найти ей пару.
Кто посадил ее здесь, словно указывая караванам, что пора делать привал? Этого никто не знает. Наши арабы, их отцы и предки, предки их предков всегда видели здесь это дерево, они утверждают, что Мухаммед, решив отдохнуть и не найдя тени, бросил здесь зернышко, наказав ему стать деревом. Эта смоковница скрывает небольшое, неказистое сооружение - гробницу, где покоится прах истинного мусульманина, паши арабы помнят о его святости, но забыли его имя.
Едва наш проводник заметил смоковницу, он пустил дромадера в галоп, и все верблюды так резво бросились за ним, что могли бы посрамить верховых лошадей. Впрочем, этот аллюр оказался более плавным, чем рысь, и был мне больше по душе. Я изо всех сил погонял своего неутомимого хаджина и достиг желанного дерева вторым. Не дожидаясь, пока мой дромадер опустится на колени, я схватился рукой за седельную шишку и рухнул на песок.
Пусть тень смоковницы давала небольшую прохладу, но она была для пас таким наслаждением, попять которое можно, лишь раз его испытав. Чтобы ощутить всю полноту счастья, мы решили выпить немного воды, поскольку паши кожаные фляги опустели во время полуденного привала и языки буквально присохли к гортани. Мне принесли новую флягу, и, взяв ее в руки, я почувствовал, что вода внутри ее такой же температуры, что и воздух; тем не менее я поднес горлышко ко рту и быстро глотнул, увы… Мне пришлось извергнуть все обратно с той же поспешностью: в жизни не ощущал я во рту такого омерзительного вкуса. За один день вода испортилась, стала зловонной и прогорклой. Увидев мою чудовищную гримасу, подбежал Бешара; не говоря ни слова, я передал ему флягу, поскольку был занят тем, что старался выплюнуть до последней капли эту отвратительную жидкость. Бешара, знаток воды, опытный дегустатор, всегда чувствовал близость колодца или цистерны раньше, чем его верблюд, поэтому остальные, не полагаясь на мой испорченный вкус, молча издали его приговора. Сначала он обнюхал флягу, качнул головой сверху вниз, выпятив нижнюю губу, давая попять, что он может высказаться по этому поводу; наконец, сделал глоток и стал перекатывать воду во рту, затем выплюнул ее, подтвердив мою полную правоту. Вода испортилась по трем причинам - из-за жары, из-за тряски и из-за того, что фляги новые. Как только мы узнали о своей участи, нам в десять раз сильнее захотелось пить. Бешара пообещал, что мы сможем утолить жажду на следующий вечер в Суэце. Было от чего сойти с ума!