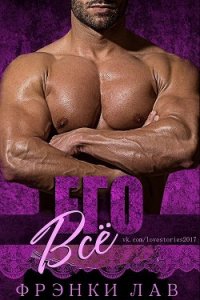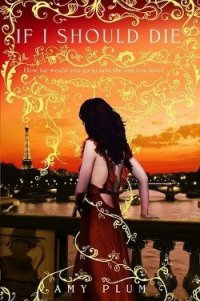Hollywood на Хане (СИ) - Рыбак Ян (книги онлайн без регистрации .TXT) 📗
Мне чужда надрывная экзальтация, с которой зачастую рассуждают о восхождениях, но я люблю движение вверх, люблю ощущать сопротивление безучастной материи, люблю ту благодатную химию, которая протекает в моём организме, когда я преодолеваю километры и перетаскиваю килограммы: растворяются шлаки, размываются тромбы, прочищаются колючим ёршиком сосуды, лёгкие и мозг…
«Дружище, — говорю я сам себе, — для этого не нужно забираться в такую даль и в такую высь…»
«Ты просто забыл, что мы снимаем тут фильм…» — отвечает мне «дружище».
О Красимире и Лёшиных водянках
На обед я заявился в приподнятом настроении, с радостным интересом к пище, а Лёша был озабочен и хмур. Он морщинит лоб и бережно трогает кожу головы, где у него лопнули мерзкие водяные пузыри, заработанные накануне в процессе беседы с альпинисткой Красимирой. Тут я попадаю в некоторое затруднение, поскольку мне в равной степени хочется рассказать и о Лёшиных водянках и о Красимире — и то, и другое, по своему интересно и примечательно, — но начну я, пожалуй, с Красимиры, оставаясь, таким образом, в русле очевидных причинно-следственных связей, хотя и опасаюсь вовсе забыть о водянках, увлекшись рассказом об этой неординарной и увлечённой женщине.
Боже мой, до чего же подходит ей это имя: Красимира! Красен мир её, светел и наполнен упоительным воздухом горних круч. Её неправильная милая русская речь журчит, как полноводный ручей в стране вечной весны, и, омываемые его неумолчным потоком, тают сердца куда более ледяные, чем моё собственное…
Когда Красимира разглагольствует, а разглагольствует она всегда, с перерывами на чуткий сон много путешествующего человека, она вдохновенна и прекрасна, и похожа на искрящийся неугомонный фонтан — спешащий выплеснуть накопленные словесные сокровища, переливающийся в спешке через край…
О чем мы только не переговорили с ней, пересекаясь в брезентовом оазисе столовой и на замшелых валунах меж палаток в редкие погожие дни.
«Ах, я так люблю израильский музыка!..» — воскликнула она при первом знакомстве, всплеснув тонкими, сильными руками скалолазки. Я посмотрел на неё настороженно и немного удивлённо, поскольку, прожив в Израиле 17 лет, не знаю, что можно было бы назвать «израильской музыкой»…
— Какую музыку ты имеешь в виду, Красимира?
— Израильский! Такой прекраснический музыка, я просто влюблена в нём!!!
— Ты имеешь в виду современную эстраду, или старые песни?.. Они такие… протяжные, — похожи на русские народные… Навеяны ширью наших бескрайних средне-израильских равнин…
— Это такой музыка… — она мечтательно возводит очи горе, тонко улыбается и прицокивает языком — причудный такой, мелодический!..
— Ты хочешь, я пришлю тебе диск? Когда мы вернёмся, напиши мне письмо с точным названием этой музыки, я найду и пришлю тебе.
— Спасибо, дорогой! Я так благодарственный тебе за этот!.. — Красимира журчала и переливалась, и светилась тёплым оранжевым светом.
«Какой замечательный, неиссякаемый источник интервью для Гоши» — подумал я тогда и тут же поделился этой мыслью с продюсером. «Будем её разрабатывать» — утвердительно кивнул Лёша, и, не откладывая в долгий ящик, предложил Красимире явиться «на пробы». Излишне говорить, что Красимира — личность лёгкая и общительная — согласилась, хоть и не без некоторого смущения того самого сорта, который так идёт любой женщине.
Её партнёр, строгий мужчина с былинным болгарским именем Георгий, напротив, сниматься наотрез отказался, и быстро скользнул по скамейке прочь от Красимиры, как только Валера направил на неё свою видеокамеру. В противоположность Красимире, Георгий был молчалив и непроницаем, как сейф с государственными секретами, — живое воплощение компенсаторных механизмов, действующих в природе.
В солнечное послеобеденное время, расставив видеокамеры на марсианских треногах и выложив привезенную из Каркары дыню на самом видном месте, мы ждали Красимиру. За неимением более значительной роли в намечавшихся съёмках, я вооружился раскладным нескладным ножиком и порезал чудный азиатский плод на длинные, как ладьи древних витязей бархатистые дольки. Вообще же, роль моя во всём этом деле менялась неоднократно, следуя непредсказуемым зигзагам Гошиного творческого процесса. Как я уже упоминал, изначально мне была отведена роль самая важная, можно сказать центральная. Подразумевалось, что я буду кочевать из лагеря в лагерь эдаким мудрым Будулаем (для опоздавших родиться: был такой фильм о цыгане Будулае, кротостью и добротой превзошедшем все известные христианские образцы, а премудростью и пониманием душ человеческих — иудейские) и вовлекать детей разных народов в вербальные отношения, а вечером, в палатке, разминая неторопливыми пальцами серый хлебный мякиш под тихое ворчание горелки, делиться с будущими кинозрителями нажитым за день духовным и интеллектуальным добром. Что-то такое в духе моих же собственных «Негероических записок», за которые я, в общем-то, и был призван Гошей под голливудские знамёна…
Однако, убедившись в том, что мои сентенции по поводу собственной «некиногеничности» не были продиктованы одной лишь болезненной скромностью, он вскоре перевёл меня, а точнее — нас с Лёшей, в герои второго плана. Мы сделались живыми манекенами, на которых примерялись и демонстрировались некомпетентному зрителю различные аспекты альпинистского бытия, как симпатичные и привлекательные, так и неприятные, и даже мерзостные… К тому же, очень скоро Гоша обнаружил, что вместо возвышенных и наполненных глубоким смыслом речей, я изрекаю по большей части саркастические и колкие реплики, а потому микрофон интервьюера постоянно огибал меня, как опытная сардина акулу, несмотря на то, что мне было что сказать, и я периодически намекал Гоше на это.
К середине экспедиции, желая извлечь из моего писательского потенциала хоть какую-то пользу, он назначил меня сценаристом, что показалось мне странным в виду того, что первая половина фильма была уже отснята, а вторая — беззащитна перед сонмом царящих на горе случайностей и неподвластна никаким сценариям. Когда Гоша уяснил себе эту очевидную, в общем-то, вещь, он решительно сорвал с моих погон последнюю лычку и перевёл меня из сценаристов в авторы закадрового текста. Таким образом, я потерял последний шанс на получение заветного Оскара — пусть не за главную роль, так хоть за лучший сценарий…
Пока же, в день Красимириного бенефиса, я лишь ассистировал операторам, да нарезал дыню ровными дольками.
Красимира была прекрасна. Держа чуткими пальцами длинную сочную скибку за самые уголки и тонко улыбаясь, она говорила о той близости к Космосу и председателю его, господу Богу, которую чувствуют альпинисты на этих слепящих невооруженный глаз высотах. О непонимании и глухоте близких людей, не могущих понять и разделить эти возвышенные переживания, не умеющих сочувствовать этой всепоглощающей благородной страсти, этому единственно бескорыстному служению… Об Одиночестве и Единстве, о Жизни и Смерти, о цикличности Бытия!..
Голос её был глубок и переливчат, и наполнен нескрываемым волнением, а в черных зеркалах её защитных очков плавала пузатой серебристой рыбой северная стена Хан-Тенгри, обрамлённая по краю Лёшиным искривленным отображением.
Съёмочное пространство, — этот отчётливо воспринимаемый, хоть и не имеющий физических границ круг, — было залито солнцем, а дыня полыхала оранжевым горном в тон Красимириной пуховке. Прохладные дуновения с ледника приятно оттеняли жесткость полуденной солнечной радиации. Всё это — вся эта сцена, весь пейзаж, ландшафт и антураж удивительно гармонировали с Красимириной вдохновенной речью, эта речь продолжала струиться и мягко обволакивать, и не хотелось её прерывать даже для того, чтобы сходить в палатку за тюбиком защитного крема или панамой, и Лёша не прервал и не сходил… И вот тут-то он и заработал те самые мерзкие болючие пузыри, с которых я начал этот рассказ, и к которым, пройдя полный круг — через Красимиру и через мой тернистый путь в кинематографе, — мы и вернулись…