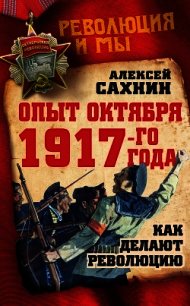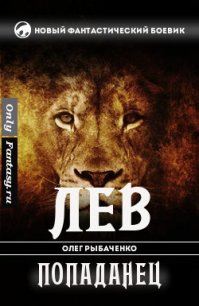Гулящие люди - Чапыгин Алексей Павлович (читать бесплатно книги без сокращений .txt) 📗
– Подьячие?
– Они! А ты прими всех с добрым лицом… не поскупись на хмельное: поубытчат, зато примут в товарыщи.
– От всей души рад!
– Ну, рад, так пьем! А ты к кому собрался? Кадило возьми да требник, свечи – не помеха.
– Ну, это мне не надо!
– А может, то, о чем сказала Ульяна, ученица моя письменная, – к Зюзиной?
– К ей, учитель!
– Так возьми кадило да свечи, – померла боярыня!
– Ой, да правда ли?
– Попы сказывали – значит, правда. Должно, с горя, как мужа на пытку взяли.
– Тогда, учитель, будем пить! Ходить туда непошто.
– Подопьем здесь – допивать будем на кабаке Аники-боголюба.
– Коли здесь тесно, идем в кабак! Мой наряд кабаку ведомый.
Сенька вынул из-за пазухи бумагу, снял с ремня чернильницу, а за ремень сунул другой пистолет. Они вышли. Подьячий сказал:
– Сынок! Наперед, как идти к Боголюбу, забредем к мосту, в кабак. Может статься, что черт, коего ищу, не пойдет далеко, а сядет пить ближе к Земскому.
– Кто ж он?
– Глебов, подьячий Земского двора. Теснит он мою кумубабу, а баба – вдова с малыми ребятами. Удумал обирать ее, счел, что заступиться некому; давай-де посул, а то ославим колдуньей.
– Уж не тот ли подьячий, что ус сосет, когда пишет?
– Тот, тот! Верно приметил, сынок. Стану пытать сговориться о бабе – может, полегчает ей. И ведь человечишко! Ему хоть черта подоить, лишь бы доил деньгами.
Они шли к Москворецкому мосту. По мосту несли на полотенцах мужики без шапок гроб.
– Вот, вишь, сынок! Холопи несут свою боярыню.
Сенька и так знал – кого: он снял скуфью и остановился. За гробом, вся в черном, хромала сгорбленная сватьюшка и слезно причитывала:
«Окатилась стена белокаменная, и не стало нашей светлой боярыни…
Поилицы нашей, кормилицы, худых нас да сирых сугревницы!»
За сватьей шли бабы-плакальщицы, они за старухой подхватывали мрачными голосами:
Гроб проносили мимо Сеньки, и Сенька слышал голоса нищих:
– К Царицыну лугу понесу-у-т!
– Далеко, да и толку мало-о! Некому подавать.
– Кому подавать? Боярин – в тюрьме, боярыня – в домовищё!
– Управительница – дурка! Сама нищая.
– Да… вот господня воля, весь дом на растрюк пошел!
– Холопей ладила дустить на волю и не успела. Теперь холопи за долги боярские пойдут в кабалу иным хозяевам!
– Давай, сынок, – сказал подьячий, – оборотим в Стрелецкую, к Анике в кабак!
– Теперь близко – только мост пройти!
– А нет! Кому покойник стренулся – счастье, мне же завсегда лихо… Идем в обрат!
Они повернули в Стрелецкую слободу.
В этот вечер кабак Аники-боголюбца был разгорожен не одной только печью, но и широкие проходы мимо печи по ту и другую сторону завешены рогожами. У рогожных занавесей стояли кабацкие ярыги; они с каждого, кто проходил к стойке, требовали деньгу.
– Пропились? Казну на пропой собираете? – ворчали горожане, неохотно платя деньгу.
– Лицедействуем! Лицедейство узрите.
– Ведомое ваше лицедейство. Вам тюрьма – родная мать, а нас с вами поволокут – беда.
– Власти кабак закинули… хозяева мы.
– А Якун? Он стоит всех земских ярыг. – Якуну укорот дадим!
– Дадим, дадим, а сколько времени ходит… водит стрельцов… с решеточным заходил.
– Ну, такое мы проглядели… Ужо выбьем из кабака! Сенька с учителем подьячим без спора уплатили за вход.
Когда вошли за рогожи, им показалось, что топят огромную баню. Воняло кабаком и дымом сальным. За стойкой, с боков питейных поставов, у стены дымили факелы.
Дым расползался на столы, на посетителей, на винную посуду, стоявшую на полках поставов. Где-то вверху было открыто дымовое окно, но дым, выходивший из кабака, ветер загонял внутрь, только частью дым уходил поверх рогожных занавесей в другую – пустую половину кабака, заваленную по углам бочками.
Столы, скамьи и малые скамейки – все перетаскано на сцену, затеянную ярыгами. Питейные столы за занавесями стояли по ту и другую сторону к стенам плотно. Питухов горожан за столами много.
Посредине сцены, недалеко от стойки, пустой стол; справа от стойки, на полу, светец, – лучина в нем догорала, снова не зажигали. За светцом, ближе к стойке, прируб. Всегда дверь прируба на запоре, сегодня распахнута настежь, из нее выглядывали кабацкие ярыги в красных рваных рубахах и разноцветных портках.
Оттуда же, из прируба, вышел ярыга Толстобрюхий в миткалевом затасканном сарафане, от сарафана шли по плечам ярыги лямки: одна – зеленая, другая – красная. Груди набиты туго тряпьем и под ними запоясано голубым кушаком. Лицо безбородое, одутловатое, густо набелено и нарумянено, по волосам ремень, к концам ремня сзади прикреплен бычий пузырь.
Ярыга подошел к столу, шлепнул по доске столовой ладонью и крикнул хриплым женским голосом:
– А ну-кася, зачинай!
С черных от сажи полатей, по печуркам печи кошкой вниз скользнул горбун-карлик, без рубахи и без креста на вороту, в одних синих портках, босой. Он беззвучно вскочил на стол, начал читать измятый клок бумаги. Читал он звонко и четко, а ярыга, одетый бабой, сказал:
– Реже чти… торжественней! Горбун читал:
– «Прийдите, безумнии, и воспойте песни нелепыя пропойцам, яко из добрыя воли избраша себе убыток; прийдите, пропойцы, срадуйтеся, с печи бросайтеся, голодом воскликните убожеством, процветите яко собачьи губы, кои в скаредных местах растут!»
Ярыга крикнул:
– Борзо и песенно! Горбун продолжал певучее:
– «Глухие, потешно слушайте! Нагие, веселитеся, ремением секитеся, дурость к вам приближается! Безрукие, взыграйте в гусли! Буявые, воскликните бражникам песни безумия! Безногие, воскочите, нелепого сего торжества злы, диадиму украсите праздник сей!»
Это был как бы пролог. Горбун, прочтя его, исчез так быстро, что никто не заметил – куда.
Снова тот же голос распорядителя-ярыги:
– Эй, зачинай!
Из прируба на деревяшках, одна нога подогнута, привязана к короткому костылю, в руках батог, вышли плясуны босоногие, в кумачных рубахах и разноцветных портках.
Стол, с которого читал горбун, мигом исчез. Начался скрипучий, стукающий танец.
Плясуны пели на разные голоса:
Тут же один ярыга бегал среди пляшущих, стучал в старую сковороду, подпевая:
Иногда пляшущие останавливались у столов, где сидели питухи, им подносили то водки, то меду.
Сенька с учителем сидели за столом, плотно прижавшись к стене и подобрав ноги, чтоб не мешать пляске.
Когда пляска кончилась, зажгли в светце две яркие смольливые лучины, осветив стену и стойки, и Сенька увидал на стене новую надпись, крупно написанную:
290
В Медном бунте медников особенно жестоко пытали, спрашивая: «А не лили ли матошников?» – денежный штамп.