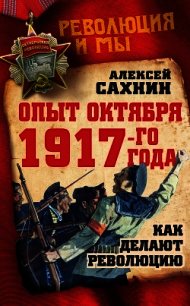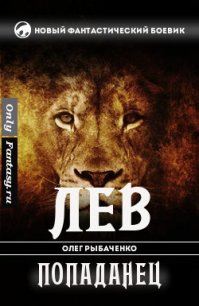Гулящие люди - Чапыгин Алексей Павлович (читать бесплатно книги без сокращений .txt) 📗
– А нет! Это тебе, Одноусому, и твоему, как его, сынку, чернецу-стрельцу, все едино… Я же во имя господа и великого государя восстану, не пощажу, изничтожить надо разбойничье гнездо!
Роженице в тряпье было тепло, она не вставала с полу. Водкой поили исправно: поднесут ендову, поставят у головы и ковш, два вольют, только рот открывай.
Кабак разгулялся вовсю. Кабацкие завсегдатаи пели:
Кто-то порывался плясать.
– Разбойники! Тот лежачий ярыга пропойца – князь Пожарской… он не впервой святотатствует да скаредное затевает! – Пей, Якун! Никто их и слушает. Пей… утихомирься!
– А нет! Злодейства, богохульства не терплю… бунтовских словес также…
На стол была потребована ендова водки. Якун взял ее, прихватил и ковш малый… пошатнулся, но, стараясь быть бодрым, зачастил короткими шагами к лежащему в тряпье. Привстал на одно колено; подойдя к голове ярыги, зачерпнул ковш водки, сказал:
– Пей! Лицедейство твое не угодно богу, противно и власти царской, но пей, коли трудился во славу сатаны! Еще пей…
Ярыги за столом пьяно смеялись:
– Сажей на курном потолке записать: Якун, злая душа, сдобрился!
– Мало, что поит, еще и мохры его водкой мочит!
– И с чего это на него напало?
– Эй, не тяни! Деньга – моя.
– Нет, не твоя! Пожарскому, лицедею, надобна.
– Верно! Он же с решетом ходил.
– Нет, та деньга моя!
Ярыги спорили о деньгах и без меры пили. Якун ползал у светца, поджигая клочки бумаги. Клочья огня бросал на тряпье ярыги, подмоченное водкой.
Сенька сидел спиной к лежащему. Учитель его, захмелев, подпер руками голову, глядел в стол и бормотал:
– Да… Якун человек без креста! Куму… бабу… вдовицу… За стойкой стоял высокий старик Аника-боголюбец. Его тусклые глаза редко мигали, он не видел перед собой дальше пяди. Аника был как деревянный идол, пожелтевший от времени. На нем – желтый дубленый тулуп, волосы русые, длинные, на концах седые; лицо – желтое, безусое, схожее цветом с кожей тулупа. Он знал только – раскрыть руку, взять деньги за выпитое и бросить их в глубину дубовой стойки. Ярыги – слуги кабацкие – дали волю пропойцам делать всякие глумы и игры, зная, что в кабацкой казне будет прибыток.
Якун, подьячий, это хорошо видел и знал, а потому, таская из карманов киндяка клочья бумаги, пробовал, какой ком лучше горит, и, наконец, поджег тряпье с середины и с концов. Ярыга спал под тряпьем; ему делалось все приятнее, все теплее, а когда тряпье загорелось зеленым огнем, Якун ушел.
– За гортань возьму! Подай ту деньгу, черт! Моя она! – закричал кто-то хмельно и злобно на весь кабак.
Сенька оглянулся, увидел, как горит ярыга, вскочил и крикнул:
– Товарищ горит! Ярыги-и!
Он хотел кинуться тушить, но его за рукав остановил учитель:
– Сынок, не вяжись… тебя и обвинят… Злодея взять негде – утек!
Началась с матюками, с топотом ног пьяная суматоха. Горевшего сплошным зеленым огнем пьяного ярыгу-скомороха вместе с тряпьем выкинули на снег.
– Родовитой ярыга-Пожарской! Из княжат.
Удержав за столом Сеньку, подьячий теребя единый ус, поучал:
– В беду кабацкой суматошной жизни помни, сынок: не вяжись! Пристал, закричал, тебя же будут по судам волочить, и гляди – засудят.
– Да как же так, учитель?
– Так… сами разберутся: умирать им не диво… мрут ежедень.
Уходя с учителем из кабака, Сенька видел: в стороне, на снегу, в зеленоватом мареве дымился ярыга-затейник князь Пожарский.
Идя дорогой, поддерживая под локоть пьяного учителя, Сенька предложил:
– Ночуешь у меня. Брести тебе далеко, и одинок ты.
– Спасибо! Ладил сказать тебе такое, да стыдился. Потому стыжусь, что кричу я ночью во сне.
– Ништо! А куму твою, учитель, от земской собаки подумаю, как спасти!
– Я бы и сам на то дело пошел, да Якун, человек, плевой видом, языком силен! С ним, сынок, не вяжись! Он любимой у дьяка Демки Башмакова, а думной Башмаков да Алмаз Иванов – свои у царя. У царя, сынок! У царя-а…
– Хоть у черта! Эх, ну! Видно, не судьба на одном месте сидеть… Жалко, вишь, с тобой расстаться да Петруху в разор пустить.
– Не вяжись с Якуном, сынок!…
Глава II. Сенькин путь
У Троицких ворот возы с мешками хлеба. Караульные стрельцы кричали монахам:
– Эй, долгие бороды! Отцы, штоб вас! Заказано с возами в Кремль.
– Мы – тарханные! Троецкого подворья… хлеб подворью пришел.
– Из-за Кремля таскали бы… на горбах! Невелики архиреи, звонари монастырские.
Сенька, увязая в снегу по колено, прошел мимо. Зима была снежная. В эту зиму караульные стрельцы, равно и горожане, бродили по снегу, как отравленные мухи по одеялу. Горожане казались особенно смешными: сгорбясь, распустив до земли длинные рукава своих кафтанов, спрятав головы в воротники, шли как на четырех ногах. Кричали знакомым:
– Ну и снежку бог дал!
– А мороз? Дерево трешшит!
Сенька, опустив рукава, слегка сутулясь, брел, оставляя за собой глубокий след. Он бесцельно поглядывал на кремлевские громады, облепленные снегом. В эти дни на стенах и церквах даже галки не кричали. От стенных зубцов свешивались вниз саженные сосули.
Сегодня с утра Сеньке было грустно. Он разглядывал толпу на площади, забывал ненадолго грусть, а потом щемило сердце, и он думал: «Отчего туга гнетет?» – шел и мысленно пробовал ответить себе: «Оттого, что привыкать стал! Кругом лихо творится, и ты той неправде больше года служишь… Таисиев путь забыл! Иное что, коли не это? Дома? Дома все ладно: Улька днем уходит к старицам… сдает им деньги, собранные на гонимых попами людей старой веры… вечером и ночью с ним. Убирает, моет, варит и даже про себя песни играет…»
Сенька был близ Троицких ворот и почти нос к носу столкнулся с подьячим Земского двора Глебовым.
От нечаянной встречи Сенька приостановился. Якун прошел и тоже остановился недалеко. Ощерил редкие желтые зубы, отряхнул, собрав в узел длинный рукав, усы, на морозе вздернутые кверху, и хриплым с перепоя голосом заговорил:
– От стрелецких тягостей едино как в мох зарылся? Пьяницы подьячишки кого не укроют…
– Чего ты, волк, скалишься на меня?
– Стоишь того, вот и скалюсь!… Наклепал начальникам, фря писаная! Был гулящим – стал стрельцом, из стрельцов полез в письменные… Гляди, еще в дьяки попадешь, придется тебе куколь снимать да кланяться былому гилевщику… Был им и им же остался.
– Служу, никого не тесню!
– До поры служишь!
– Ты, хапун, корыстная душа! Мало купцов, нищих обираешь… сирот теснишь.
– В мое дело не суйся, знай место! Эх, кабы моя власть! Вишь, они, вон башни Троицких ворот… в них каменные кладези, еще от Ивана Грозного в кладезях тех кости гниют, и вот таких, как ты, туда бы…
Якун, помахивая длинными рукавами шубного киндяка, побрел дальше.
Сенька пошел к воротам, подумал: «Сердце угадало! Вот он враг, черная душа!»
Он вспомнил, что год тому назад через Петруху, брата, пожаловался на Глебова боярину Матвееву. Матвеев не любил корыстных людей, поговорил дьякам на Земском дворе: «Этоде непорядок! Ваш служилый сирот теснит!» От думного дворянина Ларионова Якун получил выговор.
И тогда Якун забросил курень вдовы на Арбате, а на Сеньку с братом затаил умысел и ждал случая.
Дойдя до ворот, Сенька оглянулся на серое, как овчина, низко припавшее небо, решил: «На съезжую рано идти!» – и повернул на площадь.
Завидев его издали с чернильницей на ремне, хотя она и была прикрыта рукавицей, со стороны прибрели два мужика лапотных, в синих крашенинных полушубках, с длинными бородами в сосульках. Сняв с мохнатых голов самодельные шапки, поклонились. Один сказал:
– Нам, родненька, челобитьецо бы написать великому государю. Мы – выборные, пришлые из-под Рязани.
Другой простуженным голосом прибавил: