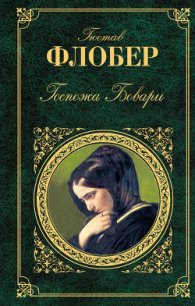Раквереский роман. Уход профессора Мартенса (Романы) - Кросс Яан (читать книги онлайн регистрации .TXT) 📗
— Милая барышня, я не могу этого сделать. Я не могу предписывать ректору Бестужевских курсов, кого ему принимать и кого нет. Поймите меня: все учебные заведения требуют расширения своей автономии, а вы хотите, чтобы министр стал вмешиваться в такие конкретные вопросы. Сожалею. Но я не могу.
Министр встает. И девушка вынуждена встать. В горле у нее комок. Потом она смотрит на собаку. Во время всего разговора между хозяином и посетительницей она держала свою тяжелую, теплую морду у нее на коленях и теперь мокрым взглядом смотрит на нее. Девушка опускается перед собакой на корточки, прижимает лицо к ее мохнатому уху (чтобы ухом вытереть слезы со щек) и говорит — но не шепотом, а все же так, чтобы министр слышал (и у меня подозрение, что это делается намеренно):
— Ах, милый пес, ты понимаешь меня гораздо лучше, чем твой хозяин…
И вдруг усталый министр начинает приглушенно смеяться и произносит:
— Одну минуту, барышня. Присядьте.
И когда девушка, едва живая от вновь возникшей надежды, садится, министр тоже снова садится за стол и говорит:
— Ну что мне с вами делать, — и пишет просимую записку.
Тчухх-тчухх — тчухх-тчухх — тчухх-тчухх — тчухх-тчухх.
Мы пересекаем северный край Латвии. Судя по паровозному дыму, солнечная погода стала ветреной. Будем надеяться, что там, на архипелаге, ветер не слишком раскачивает императорские лодки. А здесь напротив меня сидит эта улыбающаяся молодая женщина, ребячливая, самоуверенная, физически конкретная, и едва уловимо пахнет «Парижским ветерком». С ней нужно бы поговорить о теперешних, сегодняшних, завтрашних делах. Следует проявить интерес к тому, где же она живет, чем, в сущности, занимается. И кто ее муж.
— Сударыня едет, как и я, через Валга в Петербург?
— Да. А из Петербурга в Хельсинки.
Значит, у нас фантастически много времени. И я могу проявить интерес и к прошлым делам. Настолько, насколько они у нее есть.
— Позвольте мне полюбопытствовать, кто устроил вам аудиенцию у министра? Это совсем не повседневное событие, чтобы по столь личному поводу (я воздерживаюсь сказать: по столь пустячному поводу) идти к министру.
— Пожалуйста, конечно, — отвечает молодая дама с готовностью, — здесь нет никакой тайны. Аудиенцию устроил мне господин Тыниссон. Благодаря своим связям. Вы знаете господина Тыниссона?
Что значит, знаю ли я? Господин Тыниссон весной девятьсот четвертого года, когда собралась Дума, был у меня. Он хотел привести ко мне на Пантелеймоновскую чуть ли не полгруппы сторонников автономии в кадетской партии. Эстонцев, латышей, половину поляков. Чтобы я прочитал им приватный доклад о принципах автономии с точки зрения международного права. Ну, знаете ли! Господин Тыниссон, с божьей помощью, все, что угодно, только не революционер. Но такой доклад не мог остаться тайной. И в соответствующем месте по этому поводу сразу сказали бы: «Мартенс раздувает в своих лекциях для членов Думы сепаратизм!» Совершенно независимо от того, что я им на самом деле говорил бы. Так что я слушал господина Тыниссона и рассматривал его. Этот длинный тощий человек с бородой торчком — в то время ему еще не было сорока — по виду скорее балтийский барон, нежели сын эстонца. Хотя он, как говорили, находился в громком конфликте с эстляндскими немцами. Разумеется, он считал себя выдающимся оратором и с глазу на глаз говорил с людьми так, будто читал трактат, — жестикулируя и громко. Но, по крайней мере в близких ему кругах, его считали и считают до сих пор неподкупно честным человеком. Что в наше время, разумеется, большая редкость. Но повторяю: он не был и не стал революционером. Однако делами своей эстонской буржуазии он, кажется, занимается с надоедливой ретивостью. А я не могу и не хочу — скорее не хочу, чем не могу — вмешиваться в их провинциальные дела… Особенно если в этих, делах пытаются коалировать. Нет-нет-нет. Так что я дружески улыбнулся ему и сказал по-эстонски, как и он демонстративно со мной разговаривал: «Да-а. Разумеется. В принципе — с удовольствием. Хотя по моей концепции автономия — чисто государственно-правовой вопрос, с точки зрения международного права не имеющий никакого аспекта. Что, как я понимаю, вряд ли вас удовлетворит. И, увы, — на всякий случай добавил я, — у меня не будет времени, чтобы ознакомить вас и ваших единомышленников с моей трактовкой. Потому что я должен ехать в Париж на встречу членов правления Института международного права». (Я не мог сказать — на конгресс. Потому что тогда об этом было бы напечатано в газетах.)
— Ах так, — сказал господин Тыниссон неприятно громким голосом, — ну, тогда нам придется обратиться к вашему коллеге барону Таубе и послушать, что он нам ответит. Я полагал, что эстонский интернационалист даст нам более благоприятный ответ, чем барон. Но, может быть, барон настолько смелее, что все же нам ответит.
С улыбкой я позволил этому ответу прозвучать. Я не принял его к сведению. И сдержанно сказал:
— Господин Тыниссон, барон Таубе прекрасный специалист. И хотя он на пятнадцать лет моложе меня, он не менее опытен, чем я.
Закинув голову назад и выставив бородку, Тыниссон ушел. Так что — знаю ли я его?..
— Нет, милостивая государыня. Я знаю его относительно… Поскольку об эстонских делах я время от времени кое-что слышу. Я даже встречался с ним. Но знать его я не знаю.
— Но — я надеюсь — вы его цените?
Ммм… Не сказано ли это с большим жаром, чем того требует политическая симпатия? Не слишком ли много настойчивой надежды в круглых серых глазах дамы? А я сам — ха-ха-хаа — не приревновал ли я ее к господину Тыниссону?! Во всяком случае, я говорю:
— Милостивая государыня, простите мне мою объективность: если смотреть со столичного и, более того, европейского уровня, то в том, что делает господин Тыниссон, нет особой важности. Но то, как он это делает, действительно заслуживает похвалы. Ибо я слышал, что он на редкость честный человек…
По сияющему взгляду молодой дамы, по вспыхнувшему румянцу, который распространился с лица на белую шею, я вижу, что она довольна. И я испытываю потребность во имя объективности охладить ее радость. Так что я добавляю:
— Даже излишне честный, чтобы в наше время заниматься политикой. Многие считают его политическим Дон Кихотом.
И в какой-то мере для того, чтобы лишить молодую даму возможности возразить, если она обиделась, я спрашиваю:
— Кстати, вы сказали, что следили за работой Первой Государственной думы. Как журналистка. Вы представляли газету господина Тыниссона? «Постимеэс»?
Она с удовольствием кивает:
— Да, к тому времени я окончила второй курс Хельсинкского университета. Господин Тыниссон приехал из Тарту в Петербург на заседание Думы в апреле и пригласил меня. Чтобы я наблюдала за ходом дебатов для его газеты. В той мере, в какой журналистов туда допускали.
Я вижу по выражению ее лица: она мысленно вспоминает эти полные впечатлений недели. Теперь я ее вполне понял: ее по-детски оживленное и наивно рьяное выражение лица, ее самонадеянную, не очень дорогую роскошь и мини-международный размах — и устанавливаю ее социальные координаты. Значит, она не из немецкого баронского рода. Признаю свою ошибку. Но она, во всяком случае, из рода эстонских серых баронов южной Мульгимаа. И делаю глоссу на полях своей памяти: в самое последнее время среди подобных возникают такие, кого легко можно принять за первых. Так. И в этого руководителя либеральных консерваторов от Мульгимаа она влюблена. Если бы это входило в мои обычаи и было бы с кем, я был бы готов держать пари.
— Смею спросить, что произвело на вас наибольшее впечатление в этой Думе?
Неужели она начнет восхвалять дикие речи Алядина? Нет, эти жутко театральные перевоплощения в русского Мирабо, после которых либеральные столичные дамы забрасывали сего провинциального актера красными гвоздиками, нет, их эта женщина-магистр из Мульгимаа превозносить не станет. Для этого у нее слишком серьезный вкус. Если она к тому же влюблена в заместителя председателя группы пограничных народов кадетской партии… Знаю, с ее финскими привычками она начнет хвалить английский стиль речей Струве и Набокова…