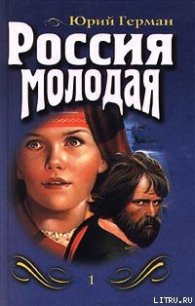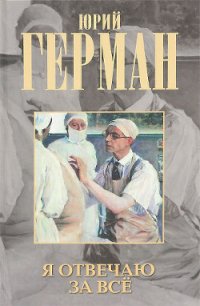Россия молодая. Книга вторая - Герман Юрий Павлович (хорошие книги бесплатные полностью .txt) 📗
— Но ведь вы бы желали освежить себя?
— Оно не так уж и существенно!
— Какое же не существенно, когда жажда томит вас, а в моем сосуде еще есть прохладительное…
Капитан-командор замер, но это было так — Вера Сильвестровна своей тоненькой ручкой протягивала ему тяжелый стакан, тот стакан, из которого только что пила сама.
— Один только глоток прохладительного, и вы почувствуете себя словно в садах Эдема, — сказала Вера. — Сладкое, славное пиво…
— О, сударыня Вера Сильвестровна! — ответил Калмыков. — Вы слишком ко мне добры…
И тотчас же приказав себе — «нынче или никогда», пересохшими вдруг губами негромко, но твердо проговорил:
— Я льщу себя также надеждою, что этот сосуд не последний, которым будет утолена наша совместная жажда…
Фраза получилась не слишком понятная, пожалуй, даже вовсе темная, и Вера Сильвестровна лишь недоуменно взглянула на Калмыкова. Он сробел, попытался было сказать понятнее, но вовсе запутался и замолчал, опустив голову. Молчала и Вера Сильвестровна, отворотившись и обмахиваясь веером. Он чувствовал, что она не хочет более его слушать и что ждет только случая, чтобы уйти от него. И негромко, не выбирая больше слов, он заговорил опять, ни на что не надеясь, заговорил потому, что не мог не рассказать ей то, что делалось в его душе:
— Нынче я навсегда вам, сударыня, откланяюсь, ибо, как понял я, для меня нет никакой надежды. Что ж, тут и винить некого, кроме как самого лишь себя, что, будучи на возрасте, от вас вовсе ума решился и нивесть о чем возмечтал. Мне жизнь не в жизнь без вас, сударыня Вера Сильвестровна, сделалась, только о вас все и помыслы мои были — и в море, и на берегу, и ночью, и днем — всегда. Ну да о сих печалях нынче поздно, ни к чему толковать…
— Танец менуэт! — крикнул Ягужинский, и тотчас же где-то совсем рядом загремели литавры и ухнули трубы. — Кавалерам ангажировать дам с весельем и приятностью. Дамам, не жеманясь и не чинясь, соответствовать кавалерам…
Неизвестный офицер — розовый, с ямочками на щеках, с усишками — разлетелся к Вере Сильвестровне, не замечая капитан-командора, притопнул перед ней башмаками, изогнулся в поклоне. Она подала ему руку. В последний раз капитан-командор увидел ее шею с голубой тонкой веной, веер, блестящий, шумящий атлас платья. Не поднимая более глаз, грубо толкаясь, он вышел в сени, отыскал свой плащ и, никого не дожидаясь, спустился с крыльца. Было холодно, пронизывающий ветер дул с Невы, жалобно скрипела флюгарка на крыше иевлевского дома, с хрустом терлись друг о друга бортами верейки, швертботы, шлюпки, лодки…
«Ишь чего задумал, — остановившись на пристани, говорил себе Лука Александрович. — Ишь об чем размечтался, ишь на кого загляделся! Нет, брат, стар ты, да и выскочка, как бы ни знал свое дело, как бы ни делывал его, все едино не станешь своим среди них. Похвалят, да приветят, да чин дадут, а все вчуже! И так, небось, горюют, что сей гардемарин мужицкого роду свой в доме, глядишь и посватается, а тут еще един — из калмыков, из денщиков!»
С тоской он прошелся вдоль темной пристани, вслушался в свист ветра, в звуки музыки, гремевшей в доме, и вдруг вспомнилось ему далекое детство, как скакал он на приземистой, быстрой кобылице по бескрайной степи, как слушал посвист степного, пахучего ветра, как вставало над степью красное солнце, как ласкала его, конного, смелого, с луком и стрелами в колчане, его, охотника, — мать и какая она у него была и красивая и добрая…
«Ей бы все рассказать, — думал он, кутаясь в плащ, — ей бы, матушке. Да нет ее, не сыщешь более, умерла, поди, проданная в рабство, один я на свете, никого у меня нет. Никого нет, разве что корабельная служба, матросы, да офицеры, да море…»
Он крепко сдавил челюсти — так, что проступили жесткие, острые скулы, вздохнул, встряхнул головою, легко прыгнул в вельбот и велел везти себя на «Святого Антония».
А Сильвестр Петрович в это самое время говорил Марье Никитишне:
— Как заметил я, Маша, капитан-командор Калмыков долго нынче беседовал с Верушею, после чего немедля отправился от нас. Не иначе, как с абшидом…
— Что еще за абшид?
— Абшид есть отставка! — молвил Иевлев. — А отставка — к добру. Лука Александрович человек не худой, да все ж…
— То-то, что все ж! — с сердцем сказала Марья Никитишна. — Слава господу, что хоть про него понимаешь толком, Сильвестр Петрович…
Выли и ухали трубы, дом Иевлевых содрогался от непривычных ему новоманерных танцев, Сильвестр Петрович, попыхивая трубкой, перевел разговор:
— Адмирал Крюйс после ассамблеи по всему дому стропила сменил. Как бы и нам не разориться. Гнилье посыпалось…
В первой паре с Екатериной шел Петр; она, ласково ему улыбаясь, старательно выделывала все па, он тоже трудился истово. Коптили и трещали сальные свечи, Шафиров пожаловался Брюсу:
— Скуп наш Сильвестр Петрович, восковых поставить не мог, на платье капает сало, и вонища…
— Не ворует, оттого и скуп! — отрезал Брюс. — На его жалованье восковых не накупишься.
За Петром во второй паре танцевали менуэт Иван Иванович и Ирина. Петр, в танце, спросил громко:
— Рябов?
— Рябов, государь!
— Барабанщиком служил?
— Служил, государь.
— Ныне у Калмыкова?
Екатерина перебила:
— Ах, как сие красиво и любьезно — разговаривать даже тут об ваши ужасьны барабаны…
— Сразу после менуэта! — сказала Ирина шепотом Ивану Ивановичу.
Тот промолчал.
— Страшно?
— А ну как…
Он не договорил. Она церемонно ему поклонилась, потом взглянула своим чистым взором в глаза, сказала, когда опять пошли рядом, приседая в такт музыке:
— А разве твой батюшка Таисью Антиповну не увозом увез?
Откуда-то из сумерек опять вышел, покачиваясь, огромный поручик-преображенец, объявил всем нетанцующим гостям:
— Нынче пошлет меня на смерть — и пойду! Ей-ей, пойду! Ну, кто не верит?
На него зашикали, он крикнул:
— Государь Петр Алексеевич, ясное солнышко, желаю за тебя без единого стона принять смерть…
Петр, оскалясь, оставил Екатерину, надвинулся на поручика, спросил:
— Без стона, а потом в генералы тебя, собаку, произвести?
— Желаю! — крикнул преображенец. — Смерть! За тебя!
Петр взял его за рукав, потащил за собою. Тот кричал с испугом и с восторгом:
— Ведет! Сподобился! Ведет!
Трубы растерянно рявкнули, ударили литавры, звуки менуэта смолкли. Все устремились туда, куда Петр повел преображенца. В дверях сделалась давка, упал столик, стало слышно, как разрывается материя — это недогадливый кавалер наступил на шлейф своей даме, а любопытная дама рвалась вперед.
В маленькой угловой светлице Петр своей лапищей схватил руку поручика, отогнул ему указательный палец, спросил басом:
— Верно помереть хочешь?
— Для тебя…
— Врешь, бодлива мать!
— Умру без слова!
Левой рукой Петр схватил железный шандал со свечой, пихнул в маленькое, коптящее пламя корявый палец поручика, басом приказал:
— Терпи, лжец, брехун, болтливый язык! Терпи, коли за меня умереть хочешь.
Преображенец открыл красногубый рот, перебрал толстыми ногами, подпрыгнул, заверещал негромко, потом во весь голос. Петр оттолкнул его от себя, велел Ягужинскому:
— Сего холуя из офицерского сословия навечно исключить и солдатом сослать куда от нас подалее. Ништо так не воняет на сем свете, как сии подлипалы, льстецы да лизоблюды.
Погодя, играя с доктором Арескиным в шахматы, говорил ему невесело, жестким голосом:
— Я велел губернаторам сбирать монстры и различные иные куриозы. Прикажи шкафы заготовить. Если бы я хотел сбирать монстры человеческие не по виду телес, а по уродливым нравам, у тебя, господин Арескин, никакого места под них не хватило бы. Пускай шатаются они во всенародной кунсткамере, там, между добрыми людьми, они приметнее, пожалуй кого и выкинешь вон с планеты нашей. Да только видно-то не сразу. Вроде поручика! Умереть ему за меня надо! А?
К шахматному столику подошел Иевлев, Петр спросил у него: