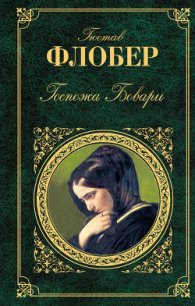Раквереский роман. Уход профессора Мартенса (Романы) - Кросс Яан (читать книги онлайн регистрации .TXT) 📗
И такое положение продолжалось больше недели. Как я и предполагал, в напряженности переговоров Витте совершенно забыл о моем деле. О ходе переговоров я не знал ничего, за исключением того, что печаталось в газетах. Невероятно, но так это было. А в газетах можно было прочесть самые противоречивые сведения. Переговоры, естественно, происходили за закрытыми дверьми, и пресса узнавала из «хорошо информированных источников» то, что она желала узнать. Как всегда. Республиканские газеты, то есть газеты партии президента, писали, что на переговорах, благодаря личной моральной поддержке президента, достигнуты большие успехи. Демократические газеты заверяли, что форсированные президентом переговоры были заранее обречены на провал и день ото дня все больше проваливаются. И практически я действительно знал не намного больше, хотя я был или должен был быть членом одной из делегаций… Потому что поверь, Кати, моя собственная делегация вдруг перестала мне что-либо говорить. Кати, их совместное предательство было в моем положении самым удручающим.
Конечно, для бесед со мной у них не было много возможностей. Утренний завтрак сервировали каждому в номере. В девять они собирались перед отелем, где уже ожидали автомобили. Мое достоинство не позволяло мне бежать к лестнице, расспрашивать их о последних новостях. Особенно после того, как однажды утром я столкнулся на лестнице с весьма сдержанным отношением Плансона и даже Васильченко.
— Господа, какие вопросы вы рассматриваете сегодня?
— Ах, Федор Федорович, по-видимому, различные… Но, к сожалению, у нас нет сейчас времени — вы же понимаете…
Им действительно было некогда. Они сразу же уехали в своих автомобилях. Но все-таки было очевидно, что им, посвященным, доставляло удовольствие не посвящать в дела отвергнутого. Так что по утрам я держался от них подальше. Ужинала делегация в маленьком зале отеля за общим столом. Только Витте не принимал в нем участия. Он будто бы страдал хронической мигренью и заказывал ужин к себе в апартаменты. Случалось, он ужинал там вместе с Розеном. Явно для совместного обсуждения каких-то вопросов. И я раздумывал, не заказывать ли и мне ужин к себе в номер. Чтобы освободиться от тягостного сидения за общим столом. Ибо во время этих совместных трапез было трудно найти верный тон. Все же я решил в них участвовать. Будто ровно ничего не произошло. Сказать свободно, мимоходом о своем устранении как о мелкой и ловкой интриге японцев, которая могла бы обрадовать их тайных друзей, если бы таковые среди нас нашлись. И улыбаться при этом господину Розену. Все так же свободно, так же мельком. Воздерживаться от вопросов. Но не абсолютно, а именно в такой мере, чтобы невозможно было определить, воздерживаюсь я или у меня нет такого намерения… Кати, признаюсь: найти верный тон было трудно, еще труднее сохранить его. И я до сих пор не знаю, в каком соотношении в мотивах моего сидения за столом находились две причины: соображение, что спокойное, все игнорирующее присутствие является признаком невозмутимого демократического превосходства, и детское, ревнивое, лихорадочное любопытство узнать что-нибудь о ходе переговоров из бесед между делегатами без унизительных вопросов с моей стороны.
Именно без унизительных расспросов. Потому что я сразу же заметил явный заговор, ну, не абсолютного, но сознательного и выборочного молчания. Мои дорогие коллеги избегали в моем присутствии говорить об essentialis [170]переговоров. Это было скандально. Но это была правда. И через неделю иные американцы говорили мне за стаканом виски: среди моих коллег шли разговоры, будто бы из Петербурга получена телеграмма с распоряжением держать меня подальше от подробностей переговоров… Не знаю, кому принадлежала эта наглая выдумка. Возможно, была пущена в ход какими-нибудь прояпонски настроенными американцами. Во всяком случае, кое-кто из моих коллег, даже многие мои коллеги вели себя так, будто подобное распоряжение существовало и, молча улыбаясь, они его выполняют с лояльностью старательных чиновников, которую мне следует понимать и признавать.
Кати, ничего более ужасного я никогда в жизни не испытывал!
Дважды Витте по вечерам приглашал меня к себе. Он угощал меня сигарой. Помню, я взвешивал: взять ее как знак своей расположенности и готовности к совместной работе или отказаться (поскольку я уже давно бросил курить), и я от сигары отказался. Он закрыл коробку с сигарами и апатичным от усталости голосом стал жаловаться на крайнюю несговорчивость японцев. И потребовал от меня аргументов, политических, юридических, исторических аргументов, которыми мы могли бы в случае возможного при соответствующих условиях мирного договора мотивировать свое несогласие с требованиями японцев выдать им русские военные корабли, укрывшиеся в нейтральных гаванях.
Я отказался от сигары Витте, но это не было знаком отказа от совместной работы. Само собой понятно, я ответил ему совершенно лояльно и очень сосредоточенно. Десять минут я говорил о своей точке зрения на общую тактику обращения с Японией. Он слушал меня и сопел, иногда в уголках его глаз мелькало согласие. Потом я перечислил ему всевозможные аргументы: нормы военно-морского права, которые можно было бы истолковать как обоснование для нашего отказа, слабые места возможности противоположного истолкования, точки зрения теоретиков, подходящие казусы в других соглашениях и в практике Гаагского арбитража. Я исчерпал все, что в этом вопросе можно было бы использовать, и изложил ему в простой и обобщенной системе. Слушая мои пояснения, он делал пометки в блокноте. Когда я закончил, он выпятил нижнюю губу, подумал и заговорил (и я надеялся, что ну вот сейчас он все-таки заведет разговор о моем дурацком положении):
— Федор Федорович, ваше объяснение дает мне некоторую надежду. Больше я вас сейчас не задерживаю.
Кати, ты понимаешь, гордость не позволила мне самому затронуть мой вопрос. И еще мне казалось, что рядом с его проблемой моя, ну, непропорциональна, что ли. Во всяком случае, в тот момент, когда я желал ему спокойной ночи, вместо того чтобы начать разговор о себе.
После страшно длинной, убийственно знойной недели стыда и унижения Витте снова позвал меня к себе. На этот раз ему нужны были аргументы, чтобы не соглашаться на требуемые Японией контрибуции. Он получил от меня и эти аргументы. Кончив делать пометки, он сказал, что в вопросе о выдаче кораблей со стороны японцев действительно заметны признаки уступок, поблагодарил меня за разъяснение по поводу контрибуции и пожелал мне спокойной ночи. Опять я не смог превозмочь себя и коснуться своего статуса. Опять я объяснил себе его необъяснимое, нечеловеческое молчание по этому вопросу усталостью, перенапряжением, сосредоточенностью на слишком важных вопросах. Однако на следующий день сосуд моего долготерпения лопнул.
Утром я опять смотрел из окна своего номера на клубы дыма отъезжавших с делегацией автомобилей, а днем промучился, потея от отвратительной духоты и избегая наседавших журналистов. Потому что интерес газетных негров ко мне за неделю нисколько не улегся. Они знали, что я был the outcast one [171], и уже поэтому пытались выжать из меня сенсационные заявления. И вдруг подавленность от разочарования, усталости, от моей смехотворности и абсурдной ненужности сплавилась в такой тошнотворный комок, что я уже не мог с этим справиться. Кати, может быть, я все-таки надеялся — да, должно быть, внутренне я надеялся, что смогу тем самым напомнить Витте, насколько смехотворно мое положение, не знаю… Часов в пять, когда делегаты возвратились в отель, я пошел в апартаменты главы делегации:
— Сергей Юльевич, мне кажется, что здесь я не могу оказать России никаких услуг. Прошу у вас разрешения уехать. Вернуться домой.
Он посмотрел на меня отсутствующим взглядом:
— Наверно, вы правы. Возвращайтесь.
Кати, не скрою, я был окончательно убит. Я побросал вещи в чемодан, впервые в жизни побросал вещи в чемодан, заказал железнодорожный билет до Нью-Йорка и через отель «Шербург» на пароход.