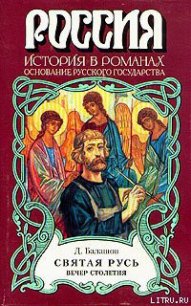Отречение - Балашов Дмитрий Михайлович (версия книг .TXT) 📗
Ольгерд налил себе воды. После жаркого из вепря хотелось пить. Михайло с Кейстутом выпили терпкого, настоянного на лесных травах квасу. Бирута явилась как тень, неслышно отворив потаенную дверь, так что князья вздрогнули.
— Гостям пора спать! — вымолвила она по-литовски. Высокая, все еще необычайно, пугающе красивая, — правда теперь, в старости, уже более строгой, чем когда-то, почти духовною, неотмирною красотой. В руке она держала серебряный шандал со свечою и, поскольку никто из председящих ей не возразил, произнесла по-русски, склоняя голову так, что на лицо ее легла тень и только неправдоподобные, сказочные глаза сверкнули в темноте, как два драгоценных яхонта: — Я провожу князя Михаила!
Михайло встал и поклонился Бируте. Все главное уже было сказано, о прочем они договорятся завтра. Он не чувствовал, спускаясь по ступеням вслед за княгинею, ни радости, ни облегчающей злобы, ни даже горя. Душа застыла в нем. Ведал только одно: предложи ему Мамай вновь татарскую помочь, он вновь отказался бы от нее. Литвины были свои, хотя и вороги. Приведи он ордынцев, и вся Тверь, не забывшая Шевкалова разоренья, дружно прокляла бы его.
Он проиграл, проиграл еще тогда, в шатре Мамаевом, не решаясь на то, на что Ольгерд решился бы не моргнувши глазом. Но уже не мог остановиться, не имел сил. И вот — начинал третью безнадежную войну с Москвою, третью литовщину.
— Почему ты не помог ему раньше, еще тогда? — вопросил Кейстут, когда братья остались одни.
— Тогда князь Михаил был великим князем владимирским! — значительно ответил Ольгерд, присовокупив дабы избежать дальнейших вопросов: — Я тоже пойду спать, Кейстут!
И только ночью, оставшись один, отпустив постельничего и затушив свечу, Ольгерд, укладывая поудобнее на мягких шкурах свое большое тело, произнес вполголоса в темноту, ведая, что его не услышит никто из смертных, даже родной брат:
— Я не хочу помогать, Кейстут, никакому — слышишь ты? — никакому великому русскому князю! Я хочу, чтобы и Тверь и все земли Московии отошли к Литве! Я буду драться только за это, Кейстут! И пусть наши с тобою дети доделают то, чего не сумели доделать их отцы! — Он снова вспомнил странно темноглазого по-кошачьи ласкового тоненького мальчика, и торопливо отогнал от себя подступившую тень сомнения. Пусть он живет и действует иначе, чем я, но пусть совершит главное — возвысит Литву!
В богов Ольгерд не верил. Он верил в земное свое продолжение и обманывался, как почти все любящие отцы.
ГЛАВА 49
Приказано было от князя идти верхами, имея с собой поводного коня. Онька шел один и на одной лошади. Недашевы на сей раз отправлялись двое (Фрол прихватил младшего братишку) на трех лошадях. Недостающих коней загоряна надеялись добыть дорогою.
Мужик не мужик, а, побывавши в двух походах, ежели не убит, — воин. Конечно, той посадки, что у молодых у Онисима не было. Да и крепче чуял себя на ногах, чем в седле. Однако ноги — в стременах, добытых в прошлом походе, уже не охлюпкой сидит, как когда-то во младости босыми пятками поддавая под брюхо коню. И справа ратная ладно проторочена к седлу. Волгу переходили еще по льду, боялись утопить коней — лед был хрупок, весь в промоинах и вот-вот готов двинуться ледоходом. В Твери долго плутали по городу, пока их определили в полк дали место и порядком оголодавшие мужики (свой запас берегли до последнего!) оказались у котла с горячею кашей. Фрол был в броне, и его взяли в кованую рать. Братишку Недашев утянул с собою, и Онисим остался один. Ночью в переполненной молодечной долго не спалось, взгрустнулось чтой-то. Долго выбирался из гущи спящих тел, долго стоял под звездами, следя легчающее небо над головою. В сорок шесть лет мужику надобно землю пахать, а не ратиться! Его чуть было и не оставили в городе, когда назавтра боярин стал оглядывать свое с бору, с сосенки набранное воинство, да забедно показало Оньке — как так? Не увечный же он какой! Подал голос, оставили в полку. Ждали потом дня четыре. Ходили к вымолам, совались в лавки, с пустом в мошне приценялись к товарам. Ратники играли в тавлеи, в зернь, кто спал, кто чинил сбрую или заплетал лапоть. На четвертый день ковали коней. Вышли в поле, скакали по мокрому снегу кучей и россыпью, и Онька боялся только одного: не запалить бы коня! Ратникам выдали копья, кое-кому сабли. Бронями Михайло богат не был.
На пятый день, поварчивая (Христову Пасху справлять пришло в молодечной избе, ето не дело!), русичи встречали литовскую помочь. Там большинство кметей были тоже русичи, из Полоцка, из Белой Руси, так что и перемолвить между собой было мочно. Спрашивали: куда поведут? О том не ведал никто. Литовские кмети тоже были редко кто в бронях, но на конях сидели хорошо, видно, что обыкли этому делу. Еще назавтра, из утра, причащались, позже поп обходил ратных с крестом. Онисим снял шапку, неуклюже поцеловал холодный крест.
Вечером этого дня накормили особенно сытно, кашею с мясом. Каждому раздали по круглому, только что испеченному хлебу, по две сушеных рыбины. Старшие проверяли справу, поочередно щупали каждое копыто: хорошо ли кованы кони? Князь показался ввечеру, проскакал мимо полка, зорко оглядев мужицкое ополчение. Онька, понимая дело, о своей дружбе с князем Михайлой и не заикался на сей раз.
Их подняли ночью, в сумерках, под зеленым передрассветным небом. Оседлали коней. По улицам спящей Твери молча, сплошным потоком, шла кованая конная рать. Редко взоржет конь, брякнет железо, и только дробный, все покрывающий топот копыт глухо прокатывает, отдаваясь эхом в межулках. Следом вывели ихний полк. И вот долгая верхоконная змея, заполняя всю улицу, устремилась к воротам. Позади слышались отдаленные стоны и удары, словно били по камню кузнечными молотами. Волга вскрывалась. По реке шел с гулом и грохотом, обдирая берега, верховой лед.
Онисим, как и многие, ждал, что их погонят берегом Волги, но полки извивающейся змеею уходили в леса, и к полудню стало понятно, что идут на Дмитров. По наведенным через лед мостам (реку загатили хворостом, сверху уложили двойной жердевой настил) миновали Шошу. Ночевали в поле, возле Клина. Горели костры. Нарубив и набросав лапнику, постелив попоны, ратники дремали у огня. Коней не расседлывали. Это была уже война, хотя и не в виду неприятеля.
Снег дотаивал в чащобах. Дорога, почти освобожденная от него — держались только наледеневшие следы полозьев, — казалась впереди полка нетронуто-чистой, словно завороженной лесовиком. Копыта то ударяли в твердое, то чавкали. Но назади конницы тянулись уже избитые, перемешанные с землею и льдом лужи, и задние ратники, ступая в это крошево, морщились от летевшей в лицо из-под кованых копыт грязи. Весенний лес полнился настойчивым шорохом и гудом: по всем лесным дорогам шла конница.
К Дмитрову подходили, огибая ощетиненные лесом холмы. Когда Онькин полк завидел бревенчатый тын и башни города, там уже шел бой, летели стрелы, вспыхивало кое-где пламя и метались среди хором разоренного посада жители, которых ловили арканами тверские ратники. Зорить уже, почитай, и нечего было.
Дмитров сдался после отчаянного трехчасового сопротивления, и Онька въезжал в город, так и не обнаживши меча. Вослед прочим кинулся в торговые ряды, хватал, вырывая у других, какую-то зендянь, платки, пихал себе в торбу. Поимел доброе ужище, сапоги из крашеной кожи. В улице, куда выбрался вскоре, опасаясь за коня, стоял плач, вой, ор; по грязи вели боярина с завернутыми назади руками с подбитою скулой; ратники древками копий выгоняли из домов посадских. Онька взгромоздился на коня, с трудом выбрался из толпы плачущих и матерящихся полоняников, начал было имать корову, что совалась, потеряв хозяина, но на корову кинулось сразу несколько ратных, и Онька отстал, махнувши рукой. Своего боярина Онисим нашел лишь к вечеру. Тот оглядел Оньку придирчивым взором:
— Поводной конь где? — вопросил.
— Нету. Думал из добычи взять! — степенно отмолвил Онька. Боярин пожевал губами, подумал.