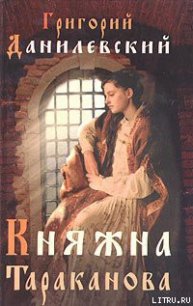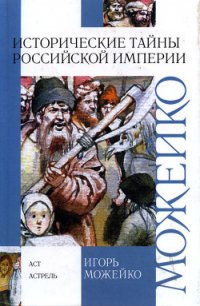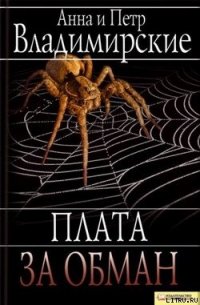Княжна Владимирская (Тараканова), или Зацепинские капиталы - Сухонин Петр Петрович "А. Шардин"
Стряпчий проговорил это с апломбом и оглянулся, чтобы видеть, какое впечатление речь его произвела на присутствующих. Заметив у всех одобрительные и сочувственные взгляды, он самодовольно начал охорашиваться и замолчал, как бы говоря: я своё дело сделал, теперь ваше дело, господа.
— Пять тысяч! Это невозможная-с, невероятная-с сумма, господа. Откуда взять такие деньги? Да это...
— Полноте скупиться, ваше сиятельство, — сказал другой заседатель как-то в нос и с каким-то прихрюкиванием. Первый заседатель перебил его:
— Ведь дельце-то, ваше сиятельство, сами изволите знать какое. Другого такого дела, пожалуй, и в жизнь не будет. Егор Егорович говорит правду: без приложения губерния не пропустит. Вы подумайте: сейчас же вы получите в своё распоряжение больше 7000 душ, как же тут пяти тысяч не дать?
— Не получу-с, не получу-с; только временно-с и под опекой. Ничего-с не получу лично-с; и бьюсь-то, можно сказать, только из самолюбия, всё же, дескать, зацепинское.
— Что вы говорите, князь, — возразил исправник. — Сегодня вам в руки указ, завтра вы будете хозяин полный. Отчёт у вас может потребовать только княжна Настасья Андреевна, а откуда её взять? Месяца не пройдёт, вы свои деньги вернёте. Не скупитесь же; право слово, не скупитесь!
— Если бы ещё вы все имения мне отдали, господа, тогда так; а то вот вам подай пять тысяч, по Парашину, пожалуй, больше потребуют, да по другим волостям в разных губерниях. Эдак, пожалуй, тысяч двадцать истратишь; имения-то будут-с почти купленные-с!
— Дёшево покупаете, князь! — сказал член опеки. — Тут одни картины есть, что по 20 000 стоят, а вы... Ведь больше двадцати тысяч душ; а дома, а завод, а движимость!
— Да ведь всё-с это временно-с, поймите, господа! Всё это-с только на хранение-с! Что за радость-с? Потом только отвечай!
— Денежки, говорят, хоть чужие в руках подержать хорошо! Они как масло пристают! — заметил член опеки.
— Нет-с, не из чего, господа, такой суммы, право не из чего-с! — ответил Юрий Васильевич. — Вот кабы вы хотели тысячки полторы-с?..
— Нет, князь, такого и разговора вести нельзя! — отвечал исправник, взглянув прежде на стряпчего.
— Ну хорошо, быть по-вашему: даю две с половиной-с. Полторы сейчас, а тысячу по вводе.
— Чего нельзя, того нельзя, стало быть, и говорить об этом пустое дело! Подумайте: вот нет-нет да и наезжаем мы сюда поверку и контроль чинить, и всякий раз получаем за то от экономии в благодарность то 300, а то и 500 рублей. Всё доход! Отдадим имение вам — этот доход уж в небе будет!
— Ну три?
— Нельзя! — отвечал капитан-исправник, поглядывая на стряпчего.
— Три с половиной?
— Менее пяти никак нельзя, ваше сиятельство; верьте Богу, боимся, самим внакладе бы не остаться. Хотите пять — будем думать и делать, а не хотите... сами изволите знать: сухая ложка рот дерёт.
— У меня денег таких нет!
— На нет и суда нет, князь! Только тогда, как говорится, груздем не зовись и в кузов не ложись!
— С вами, господа, видно, ничего не поделаешь! — начал вновь Юрий Васильевич. — Обидеть хотите меня, бедного человека-с, по миру пустить-с. Что ж делать-с, тянусь из последнего; хотите четыре, — всё, что за душой есть!
Исправник взглянул на стряпчего; заметив его отрицательный знак, он отвечал тоже отрицательно.
— Ну что тут станешь делать, если уж вы меня хотите вконец разорить? Выходит, надо быть, по-вашему; пять, так пять, три при указе, а две через четыре месяца.
— Вы смеётесь над нами, князь... — начал было говорить опять тот же разговорчивый заседатель, но стряпчий его перебил.
— Полноте, ваше сиятельство, — сказал стряпчий, — мы не дети, знаем хорошо, что только получите имение в руки, вас и не достанешь, а с нас будут требовать. Хороши мы будем. Нет уж, как было говорено: тысячу рублей задатку сейчас, а четыре — из рук в руки при получении указа. Вы подумайте: мы сделаем — вам будет пример и для других вотчин и имений. В Парашине, говорят, дворец такой, что и у царицы такого нет!
Делать было нечего, пришлось согласиться. Теперь вопрос был только о том, как бы скорее. Таким образом, Юрий Васильевич, сговорившись относительно зацепинских имений, поехал в Москву, в Петербург, на завод. С плачем и горем выпускал он деньги, торгуясь за каждый грош, но волей-неволей платил; не платить нельзя было.
С той самой минуты, как Никита Юрьевич ему намекнул о возможности получить имения и капиталы, завещанные Настасье Андреевне, эта мысль преследовала его неотступно. Она была, можно сказать, манией души его. Он только о том и думал. И вот наконец дело приходит к окончанию. Он, правда, истратился, разорился, но зато если не капиталы, то имения зацепинские будут у него в руках. Он повыжмет из них сок, усотерит истраченные им деньги.
«Одно жаль, — думал он, — нельзя вот этот хлам продать (под хламом он подразумевал дивные произведения искусства, собранные Андреем Дмитриевичем и Андреем Васильевичем). Значатся по описи, продать никак нельзя. А зачем они? Никакой пользы-с, мёртвый капитал! Ну да ничего, мы постараемся пообменять которые подороже. В описи же не оговорено никаких примет. О статуях, например, не сказано даже и того, мраморные они-с или алебастровые, мы сделаем их все алебастровыми. Да и картины... написано, например, «Ночь» Корреджио; мы и повесим ночь, а там доказывай, Корреджио она или какая другая. Распорядимся-с, одно слово, что распорядимся!»
Между тем мало-помалу между крестьянами начали распространяться слухи, что их отдают князю Юрию Васильевичу.
Тут они и в самом деле готовы были ничего не жалеть. Грянул гром. Собрали денег, послали ходоков в Зацепинск, в губернию, а потом в Петербург. Но было уже поздно. Дело было решено, и земский суд наехал из Зацепинска вводить князя Юрия Васильевича во временное владение селом Зацепином с волостями и деревнями. Крестьяне подняли вой, бранили себя, что долго собирались. Но близок локоть-от, да не укусишь; делать было нечего, стали собирать понятых.
В это время действительная наследница князей Андрея Дмитриевича и Андрея Васильевича Зацепиных, Настасья Андреевна, ехала из Гавра через всю Европу в Россию. Ехала она тихо, покойно, не торопясь, в своём экипаже, останавливаясь там, где что-нибудь обращало на себя её внимание.
Из газет она знала, что в России всё покойно, смут нет.
«Если существует ещё там какая бы то ни было княжна Владимирская, — думала она, — то, видимо, волнения она не произвела, сочувствия себе не вызвала. Может быть, она захватила себе мои имения? Что ж; мне изобличить её будет легко. Да этого и быть не может. Чернягин, душеприказчик и управляющий моего отца и кузена, был в Париже и знает меня лично».
Таким образом, ехала она довольно медленно, наблюдая и рассматривая всё, что казалось ей любопытным.
Но нужно сказать, что это была уже не та княжна Настасья Андреевна, которую мы видели среди избранного кружка в отеле герцогини Прален, с её спокойной грацией, холодным, но глубоким взглядом её голубых глаз, немножко насмешливой, но приятной, сияющей улыбкой, молчаливой, но с метким значением каждого слова; не та, которая среди блестящей, модной молодёжи великолепного двора Людовика XV сумела отличить молодого энергичного американца Ли, столь не похожего на эту молодёжь, угадав в нём человека; не та княжна, которая расспрашивала Франклина об его открытиях, интересуясь всем, что относилось к успехам разума; и не та Настасья Андреевна, само отрицание которой, готовность к самопожертвованию разливали столько энергии в отряде её мужа, давали столько отрады всему, что её окружало. Горе, тяжкие потери оставили на всём существе её печальный след. Глаза её смотрели глубоко, но тускло. Слёзы иссушили их блеск. Нежный румянец молодости пропал. Она похудела и побледнела. Личико её как-то осунулось, и даже морщинки чуть заметными чёрточками обозначились на её лице. Но она всё ещё была хороша, чудно хороша, несмотря на свои уже за тридцать лет.