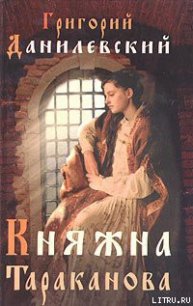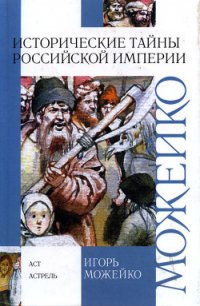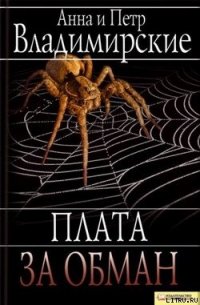Княжна Владимирская (Тараканова), или Зацепинские капиталы - Сухонин Петр Петрович "А. Шардин"
Особенно хорошо было выражение её печального глубокого взгляда и её доброй и светлой улыбки. Она смотрела так, как будто говорила: «Вы не смотрите, что я так печальна; всё же я люблю вас, всех люблю и себя не пожалею, чтобы все были счастливы!» К тому ж её стройность и величественность, её грация, благородство каждого её движения, сохраняющие своё обаяние до глубокой старости, не могли не останавливать на ней внимание, не могли не заставлять на неё засматриваться.
Она ехала и наблюдала. Настасья Андреевна заметила, что делаемые ею наблюдения её рассеивают, не дают углубляться самой в себя, не дают отдаваться грустным мыслям, отводят воображение от печальных картин прошлого.
«Стало быть, наблюдения помогают мне переносить с твёрдостью моё глубокое, безысходное горе, а я должна его переносить с твёрдостью, как женщина и как христианка», — говорила себе Настасья Андреевна и старалась больше видеть, больше наблюдать.
Дело в том, что ей хотелось занять себя, а для того, ясно, нужно было вдумываться в то, что было перед ней. И вот она начинает вдумываться, доискиваться причин, почему это так, а не иначе. Она смотрела на свои наблюдения как на лекарство от грусти, которая по временам её одолевала, и, естественно, хотела, чтобы лекарство это действовало на неё глубже и сильнее.
Таким образом, она привыкла вникать, вдаваться в анализ всего, что только проходило мимо её глаз. А анализ, естественно, вызывал мысль, вызывал заключение и, наконец, приводил к вопросу, что будет делать она в России?
Отвечая себе на этот вопрос, она не могла не вдаваться в иллюзию, не могла не увлекаться иногда мечтой. Голова её незаметно принимала и усвоила себе разнообразные предположения социального устройства. В то время это был модный предмет беседы образованного общества, — предмет, составлявший существенную задачу литературного движения того времени, — движения, давшего толчок общественному мнению. С лёгкой руки Жан-Жака Руссо все хотели говорить и писать об общественном устройстве. Направление, выразившееся школой физиократов, каковы были Кенэ и Мирабо-отец, поднявшие в экономическом развитии знамя «дружбы к людям», привлекало и занимало собой всех, от глубокомысленной, седой головы министра до головки молодой девушки. Ясно, это направление не могло не коснуться и размышляющей головы Настасьи Андреевны.
Думая о России, она невольно идеализировала её устройство. В то время о России много говорили и много писали. Слава Семирамиды севера, покровительницы философов и энциклопедистов и победительницы всех своих противников, обращала на неё общее внимание. Екатерину прославляли Вольтер и д’Аламбер, Дидро и Кребильон, Неккер и мадам Жофрен. О ней говорили в салонах, в литературе, в политике. Говоря об Екатерине, нельзя было не говорить о России. Слава её оружия, успехи просвещения, начинающаяся литература — всё это издали блестело, сияло, прославлялось. Настасья Андреевна, в которой ни на минуту не погасала живая струйка истинно русской души, невольно сочувствовала этой славе, гордилась ею; гордилась тем более, что она видела, что народ везде бедствует, везде подавлен.
«Не подавлен он, не бедствует только у нас, в России, в моём дорогом отечестве, — говорила себе Настасья Андреевна. — Грубые нравы там смягчаются милостивым царствованием разумной и справедливой государыни, а феодального гнёта там никогда не было, стало быть, неоткуда ему было и явиться».
Проезжая Южную Францию, потом Германию, она была поражена одним — всеобщим рабством. Рабство было принципом социального устройства Западной Европы. Оно царствовало повсеместно и распространялось на всех. В деревнях — крепостное право, в городах — цехи и корпорации, в столицах — бюрократия. Все одинаково смотрели на общество как на рабов, созданных для услаждения тех, от кого оно зависело.
«Какая разница от свободы воззрений Северной Америки, — думала Настасья Андреевна, — Америки, которая перед целым миром заявляет, что в ней нет рабов, все господа!»
И точно, там рабов не было, по крайней мере до тех пор, пока не присоединились к республике рабовладельческие штаты.
А тут Настасья Андреевна видела везде крепостное право, и до какой степени? До права на жизнь и смерть, до подчинения сюзерену не только труда, но и совести, своего человеческого чувства и достоинства. Сюзерен имел право требовать десятину произведений земли, первенца всех стад, половину силы труда, первую ночь брака. Это было его легальное право, была привилегия феодального деспота.
«След исторической жизни, — думала Настасья Андреевна, — след победы и гнёта, наложенного победителем на расу побеждённых. В России, — рассуждала она, — не было ни победителей, ни побеждённых. Там братья, исполняющие волю только одного, избранного, по воле Божией, народом из того рода, который в смутные времена исторической жизни России сохранил всю чистоту своего имени. На этом основании, — думала Настасья Андреевна, — у нас, в России, не может быть тиранства, говорящего: «Веруй так, а не иначе; живи так, а не иначе; отдавай свой труд, своих первенцев и то, что тебе дорого, за то, что я даю тебе право жить и дышать». У нас нет таких мертвящих и давящих постановлений. Потому-то, — думала она, — прилагать свою мысль и деятельность к почве, где разум не стеснён насилием, где человек признается человеком, — это благословение и милость Божия. А я могу прилагать не только мысль, но и средства, будто нарочно Богом мне к тому предоставленные. Не для того ли Богу угодно было посетить меня несчастиями после того чистого и светлого счастия любви, которое я испытала на чужой стороне, чтобы потом направить меня, умудрённую опытом, на благо родной страны?»
Мечты, мечты, где ваша сладость? Приехала в Россию и что же увидела Настасья Андреевна? То же крепостное право, то же рабство, тот же гнёт, усиленный только грубостью нравов и дикостью произвола.
Правда, в этом рабстве не было легальных прав на жизнь и смерть, не было права на первенцев, на первую ночь брака, на совесть верования. Но что значит отсутствие юридических прав там, где не охранена неприкосновенность личности? Кто же не откажется и от совести, и от семейства, и от самой жизни в виду истязаний и пыток? Не откажется христианский мученик!
Да! Но разве возможно всем быть героями мученичества!
При этом, проезжая сперва Европу, а потом Россию, Настасья Андреевна заметила в практике жизни всеобщий, хотя и весьма странный закон общественности: всё, что давит и гнетёт, вырождается и беднеет, всё, что подавлено и угнетено, крепнет, богатеет и развивается. Этот закон, как кара Божия гнету, насилию и произволу, как высшая справедливость Промысла, проходит через. историю всех стран и народов и выражается последовательно в социальном устройстве каждого. Его уже понимают и начинают усваивать не только идеологи, но и люди жизни. Вот германский император Иосиф II объявил себя врагом рабства. Русская императрица Екатерина выразила готовность издавать у себя энциклопедию.
Не суждено ли ей, русской женщине, не знающей России и испытавшей столько счастия и столько горя на чужой стороне, указать на этот общий исторический закон, чтобы путём убеждений и примера прийти к отрицанию насилия?
«О, это было бы действительно милость Божия, душевное вознаграждение за всё горе, которое я перенесла!» — сказала себе Настасья Андреевна и с молитвой обратилась к Тому, от кого зависит наше утешение в минуты горя и страдания.
Собираясь в Россию, Настасья Андреевна решила, что миссию своего добра и любви она начнёт с самого глухого угла своих имений, с того княжества, имя которого она носит, именно с дедова и прадедова села Зацепина. Она приехала туда в то самое время, когда, приняв уже в своё владение Парашино, князь Юрий Васильевич хлопотал о том же в Зацепине и когда члены земского суда вместе со стряпчим и священником, служившим благодарственный молебен за благополучное завершение дела, окончив формальности ввода во владение и разделив между собой, по чину и значению, полученные от князя Юрия Васильевича деньги, весёлые и довольные, садились за изобильную трапезу, предложенную им, по обычаю, князем Юрием Васильевичем, тоже весёлым-развесёлым, несмотря на понесённые им расходы.