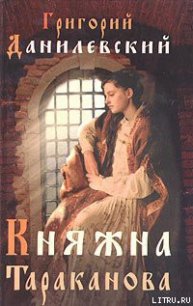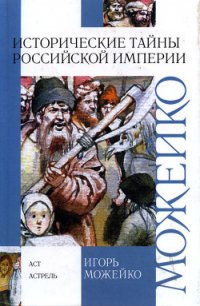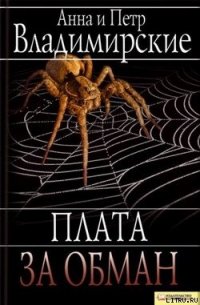Княжна Владимирская (Тараканова), или Зацепинские капиталы - Сухонин Петр Петрович "А. Шардин"
— Да так! Пяток по зацепинскому имению разделили?
— Ну разделили, так что ж?
— Ну ещё десяток разделим!
— Это каким образом?
— Таким: мы без того наследницы во владение не введём.
— Как не введём?
— Да так! Условий завещания не выполнила. Сказано было, идти замуж за князя дома Рюрика, а она вышла за какого-то Ли.
— Да муж умер, детей у неё нет, стало быть, наследство не разбивается. Она каждый день за Рюриковича или там за какого князя идти может!
— Нам до этого дела нет, сказано: имение предоставляется княжне Настасье Андреевне Зацепиной, с тем чтобы шла замуж так-то и так. Поэтому мы и можем вводить во владение или княжну Зацепину, или княгиню там какую-нибудь дома Рюрика; а каким же образом мы будем вводить какую-то госпожу Ли? Невозможно, совсем невозможно!
— А ведь и точно! — начал резонировать уездный судья. — Если бы она теперь и вышла замуж, положим, за князя Ростовского или Долгорукова, несомненно Рюриковичей, всё же ей имение не следует; условие всё не выполнено. Потому что в завещании не сказано ничего о возможности выйти сначала за другого, а потом за князя, а сказано именно: княжна выйдет замуж за князя дома Рюрика. Теперь она хотя бы и шла, согласно условию завещания, за кого бы там ни было, но будет выходить не княжна Зацепина, а вдова Ли.
На основании таких рассуждений и соображений начались нескончаемые придирки к Настасье Андреевне в рассуждении передачи ей имения. Этими придирками они до того её измучили, что она готова была сама от всего отказаться. Только желание не передавать родовые вотчины в другие руки заставило Настасью Андреевну продолжать хлопоты.
Надоело, однако ж, Настасье Андреевне возиться и толковать с зацепинскими юристами, и она решила ехать в Москву и кончить там относительно Парашина, не зная того, что зацепинские крючки с московскими давно уже переписались.
Кроме необходимости хлопотать, ей любопытно было взглянуть на Москву, которой она ещё не видала.
«Там, — думала она, — я скорее могу найти знакомых моего отца, которые захотят помочь его дочери. Там, по крайней мере, я узнаю, что нужно сделать». И она поехала.
В Москве, обозревая достопримечательности, она натолкнулась однажды на громадный съезд перед церковью, — съезд в таком размере, в каком она в Москве до тех пор не видала. Проехать через этот съезд не было возможности.
— Что это значит? Какая это церковь? — спросила Настасья Андреевна.
— Ивановский монастырь, — отвечали ей.
— Отчего же такой съезд?
— Принимает пострижение новая монахиня, — отвечали ей, — из очень знатных.
«Я никогда не видала пострижения, — сказала себе Настасья Андреевна, — зайти разве посмотреть... Только если можно найти место?»
О своём желании Настасья Андреевна сказала сопровождавшему её ездовому. Ездовой похлопотал, отыскал казначея монастыря, мать Таифью, подарил ей, по приказанию Настасьи Андреевны, несколько золотых, и та проводила её на хоры и поставила её так, что она могла вполне видеть всю церемонию и слышать каждое слово.
Видит она стройную, благочинную службу. Церковь полна народа и большей частью высшими классами общества. Превосходное, торжественное пение, благочиние, самозабвение в молитве глубоко запали в сердце Настасьи Андреевны. Благоговение невольно охватило собой всю её душу. Оно наполнило её чувством невыразимого восторга. Она невольно подумала: «Вот убежище, дающее отраду несчастным» — и начала молиться, молиться искренне, от души. Она давно не помнила, чтобы так молилась: ей же почти не удавалось быть в православной церкви.
Но вот приводят постригаемую. Она в чёрном платье, лицо её покрыто флёром. Она снимает покрывало... и что же видит Настасья Андреевна? Молодую девушку лет 22-х или 23-х, красоты чрезвычайной и, видимо, вне себя среди торжественности обряда. Она не видит и не слышит ничего, она вся молитва. Волосы её рассыпаются по плечам. Глаза полны того неземного выражения, которое может исходить только из чистого возношения сердца к небу... Её постригают. Потом после принесения ею клятв отказаться от всех почестей мира, от всего родного, от всего любимого её одевают в монашеское платье, с пением торжественных стихир и молитв. Для Настасьи Андреевны это было нечто совершенно новое; оно поразило её глубоко.
— Как фамилия вновь постриженной? — спросила Настасья Андреевна.
— Княжна Трубецкая, младшая дочь покойного генерал-фельдмаршала, бывшего некогда генерал-прокурором, князя Никиты Юрьевича.
И точно, это была известная нам Китти, Катерина Никитична Трубецкая.
После смерти отца она очень убивалась. Ей всё казалось, что она была существенной причиной его смерти, отказавшись идти замуж за князя Юрия Васильевича, которого она не признала человеком. Не знала она того, что и сам отец её, увидав Юрия Васильевича первый раз, предложил себе тот же вопрос: «Человек ли он?»
Постоянные слёзы, уговоры, убеждения, в течение не одного года, заставили наконец согласиться княгиню Анну Даниловну на неотступные мольбы её дочери о поступлении в монастырь. И она постриглась. Случай привёл Настасью Андреевну быть свидетельницей её пострижения, которое произвело на неё столь глубокое впечатление, что она долго и долго думала: «Вот где приют спокойствия от всех треволнений жизни, вот где облегчение страданий в несчастий».
Али-Эметэ до того была утомлена долгими и настоятельными увещаниями отца Петра, что лежала почти без движения. Она была подавлена в собственной мысли своей, унижена в собственном своём сознании. Безнадёжность, полная безнадёжность, доходящая до отчаяния, душила её. Что ей предстоит? Тюрьма, вечная тюрьма!.. Боже, лучше смерть! А там вот этот безжалостный человек сулит вечные муки, муки страшные... «Вот моё будущее, — думала Али-Эметэ, — мучиться на этом свете и страдать на том. И на такое будущее я променяла своё положение в графстве Оберштейн, в замке Нейсен; променяла грот любви с моим Телемаком и княжескую корону владетельной принцессы гольштейн-лимбургской. Что я сделала, и для чего, и для кого? Для ласки этого человека, который, лаская, продавал меня, продавал зародыш своего собственного ребёнка.
«Да, он низкий, негодный человек, а всё же... Себе я могу в этом признаться, я его любила так, как не любила никого никогда! Даже теперь, как вспомню, кажется, и теперь люблю его, и только его... Боже мой, что за сила у этого человека? Какая страсть! Замирает сердце при одном воспоминании этой огненной, страстной ласки, в которой сливаются, кажется, и небо, и ад; в которой заключается всё: настоящее, прошедшее и будущее... Будто огнём охватила она меня тогда, разразилась хаосом бури и заключилась негой страсти, томлением слабости. И так хотела я целовать его, — целовать, отдаваться и опять целовать… И вот... Как мне хотелось иметь ребёнка от Лимбургского... Нет, нет и нет! А тут прямо и след любви, грустный, печальный, но след... Как бы мне хотелось подать этого ребёнка отцу и сказать: «Вот мой мститель, возьми его, люби его, если ты можешь кого-нибудь любить... Проклятие! Такого человека я могла любить, могла им упиваться...»
— Боже мой, что это?.. что это? Я с ума схожу!..
К ней из другой комнаты тихо выходил, как бы плыл Алексей Орлов.
Он был одет в тот же мундир генерал-адъютанта, в той же голубой ленте, с теми же бриллиантами и украшениями, как и в Пизе, когда он явился перед ней первый раз, вызванный будто волшебной силой её слова. Он также будто нёсся по воздуху, так неслышно, незаметно, беззвучно подошёл он и наклонился над её постелью, так же как тогда над её креслами. Как тогда, так и теперь Али-Эметэ замерла, будто очарованная.
— Лиза, ты проклинаешь меня? — спросил Орлов, останавливая на ней взгляд, полный того обаяния, от которого когда-то кипела у ней кровь, мутился взгляд и она, именно в томлении неги, прижималась к его груди.