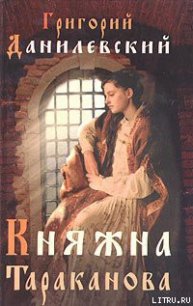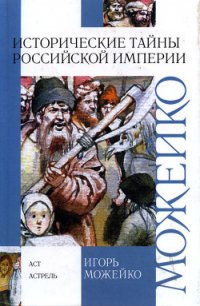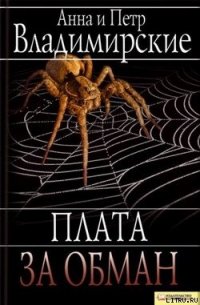Княжна Владимирская (Тараканова), или Зацепинские капиталы - Сухонин Петр Петрович "А. Шардин"
Но тут его голос произвёл прямо противоположное действие. Она приподнялась на своей постели, как ужаленная.
— Да, проклинаю! Проклятый, подлый человек! Чего ты хотел от меня? Не готова ли была я отдать тебе всю душу мою? Ты мог уговорить меня умереть, я бы послушалась тебя, радостно умерла бы, с словами любви и счастия... Но тебе мало было моей смерти; тебе хотелось моего позора, моих мучений. Смотри! Любуйся! Вот как я истерзана, как измучена. Наслаждайся, вспоминая, какая я была и какая я теперь! Хвастайся, что это ты сделал, что это ты убил!
Она зарыдала, нервно, истерически зарыдала и опустилась вновь на свою постель.
— Я пришёл спасти тебя, Лиза; ведь ты ещё любишь меня?
— Люблю ли? — спросила она, приподнимаясь вновь. — Разве можно любить проклятие, болезнь, плен, несчастие, истязания? Скажи ты, фальшивый человек, разве можно любить тюрьму? Я проклинаю тебя, проклинаю минуту, когда услышала о тебе, когда узнала твоё имя, когда услышала первое слово!.. Проклинаю, Боже мой! А чувствую, что ношу под сердцем плод любви его... Боже, помилуй меня! Даже и в ненависти своей я не могу не любить его — отца моего первого и единственного будущего ребёнка!
— Слушай, дорогая моя, не сердись! Помнишь, я писал к тебе, что на конце света я найду тебя и приду. Вот видишь, я сдержал слово своё, пришёл; выслушай же меня!
По этому слову Орлова Али-Эметэ подняла на него пристальный взгляд. Слёзы её мгновенно высохли, она оперлась на подушку и, бледная, с пятнистым румянцем на щеках, смотрела на него пристально, глубоко, будто взглядом своим желала проникнуть сокровенный смысл каждого его слова. Губы её нервно дрожали.
— Вот видишь, душа моя! Екатерина царица милостивая, а главное — умная! Для неё нет никакой пользы ни в твоей смерти, ни в твоих мучениях, поэтому держать тебя в заключении она не станет. Ей нужно знать, кто из русских выдумал и научил тебя, кто доставил тебе бумаги, которые вообще достать было трудно... Кто, одним словом, пружина всему, что идёт против неё. Скажи ей — и мы будем счастливы. Она сохранит за тобой титул княжны Владимирской, отдаст, пожалуй, в удел самый Владимир, утвердит в зацепинском наследстве, и мы будем счастливы, дорогая моя, моя милая!
Орлов замолчал, садясь к её кровати, а Али-Эметэ всё ещё как бы слушала его. Потом вдруг вскрикнула:
— Слова дьявола, слова дьявола! Вот они, эти слова, исходящие из самого ада лжи и обмана! Отец Пётр прав, когда говорил, что вживе услышу я эти адские слова злого духа, разливающего соблазн, сеющего зло. Прочь, проклятый! Сгинь! Исчезни! Ты посланец Екатерины и более ничего! Ты следователь, продолжение Ушакова, Шешковского, и ещё того попа Петра, и всех их, которые меня допрашивают, мучат! Молчи, молчи! — закричала она, заметив, что Орлов хочет говорить. — Или скажи: ну, ты обманул бедную женщину, посмеялся, обманул меня; но за что же ребёнка, твоего ребёнка, за что ему приготовил ты несчастную участь страшного сиротства и страдания?
Орлов, желая успокоить её, хотел взять её руку.
Но она, несмотря на свою слабость, несмотря на то что была в одной рубашке и кофте, вскочила с постели.
— Прочь, негодный! Не оскверняй меня своим прикосновением! Прочь, посланец-соблазнитель, приносящий тюрьму, язвы и смерть, приносящий проклятие! Да обрушится это проклятие над твоей головой! — И она вытянулась, топнув по ковру своей маленькой, босой ножкой, и протянула свою исхудалую голую ручку, как бы желая отстранить видение. — Сгинь! Исчезни! Пропади! Да будет ад твоим отечеством! Уходи же! Уходи, следователь, преемник попа Петра и Шешковского!..
Орлов понял, что он дал маху; что добиться от неё чего-нибудь убеждением разума было немыслимо. Нервы её были слишком раздерганы, чтобы она могла слушать, могла думать о том, что слышит.
«Если она и знает что-нибудь, — подумал Орлов, — то выпытать у неё это можно было только обманом, только возбуждением страсти. Эх, не так я за дело взялся!» — сказал себе Орлов и думал поправиться, сказав с напускным выражением страсти:
— Ну так бежим вместе!..
Он хотел ещё что-то сказать, но она перебила его:
— Новый обман, новая ложь! Бежать, зачем? Чтобы ты выдал меня каким-нибудь агентам, которые убьют меня за углом! Нет, никуда я не пойду, ничего не скажу! Я умру здесь, и моё имя, моя смерть будут твоим позором, позором твоего имени! Лучше задуши меня скорее, чтобы я меньше проклинала тебя. Убей меня! Твои руки, обагрённые уже кровию, не дрогнут убить больную женщину. Убийца, убей же меня! — И она закашлялась тем глухим, тяжёлым кашлем, который можно было назвать роковым. Во время кашля её начала бить лихорадка, из горла показалась кровь. Кашляя, она нервно опустилась на ковёр и разрыдалась страшно, не говоря ни слова и как бы забыв об Орлове.
Орлов испугался и вышел.
Он поехал доложить Екатерине о неуспехе своего посольства, и у него ещё достало духу шутить, называя её сумасшедшей, думавшей, что перед нею явился не то домовой Петропавловской крепости, не то Самиэль немецких сказок, и она начала его заклинать.
— Крюку дал, матушка, ваше величество, как быть, дал крюку! Мне бы с того начать: «Бежим, дескать! Я и через стену крепости проведу...» Как быть! Конь и о четырёх ногах да спотыкается!
Екатерина смеялась, но очень сдержанно. Она любила искренне смеяться только тогда, когда приказания её были исполнены «с полным успехом» и «к всенепременному нашему удовольствию». А промах, так промах, кто же виноват?
Вместо Орлова подле Али-Эметэ очутился доктор. Он дал ей успокоительное, уложил в постель, прислал к ней Мешеде и обещал выпросить какие-то облегчения. Али-Эметэ очнулась и попросила к себе князя Голицына.
— Ради всего святого, умоляю вас, князь, прикажите не пускать ко мне того проклятого человека, который перед этим был у меня и который причина всех моих несчастий.
VI
МСТИТЕЛЬ
В Москве жизнь для Настасьи Андреевны показалась несравненно тяжелее, чем в Зацепине.
Там она подверглась только назойливости одного своего кузена и притязаниям чиновников. Но, отметив однажды своего кузена наименованием «кулака», она более о нём уже не думала. Он скоро и уехал, видя, что от сестрицы более ничего не дождётся, и боясь упустить выгодную продажу своей крепостной девки овдовевшему попу. А с чиновниками она, по совету и при помощи Анисима Антоновича Чернягина, скоро сошлась, уплатив им что-то около семи тысяч. Взяв эти деньги, чиновники сумели согласить свои действия с своими мнениями, и это для них было тем приятнее, что в этом соглашении осталась им надежда и ещё получить малую толику. Они сделали для Настасьи Андреевны то же, что полагали сделать для Юрия Васильевича, ввели её во временное владение, войдя куда следует с представлением об окончательном разрешении вопроса, следует ли признавать выход замуж княжны Настасьи Андреевны за мистера Ли нарушением условий завещания, когда она уже бездетная вдова и может выйти замуж за кого угодно? Само собою разумеется, что такое действие русских чиновников не могло вызвать со стороны Настасьи Андреевны особого к ним сочувствия и уважения. Но Настасья Андреевна на всё умела смотреть снисходительно. Она отнесла этот вопрос к разряду тех, которые были уже разрешены её мировоззрением. «Страсть к наживе, отсутствие традиций доблести, исходящие непосредственно из преобладания капитала. Чего ждать от тех, которые не ценят ничего, кроме денег?» — заключила она и более о том не думала и не говорила.
В Зацепине её жизнь была спокойствие полное, безмятежное. Там она могла всецело отдаваться воспоминанию о своём Эдварсе, о своих ангелах-детях; вместе с тем могла анализировать свои чувства, мысли и ощущения, могла читать, и много читать. Анализ своих мыслей указал ей на опасность такого полного одиночества. Она заметила, что углубления в самую себя и в воспоминания только усиливают, только питают её горе. Впечатление, произведённое на неё посвящением молоденькой княжны Трубецкой, вызвало в ней много размышлений.