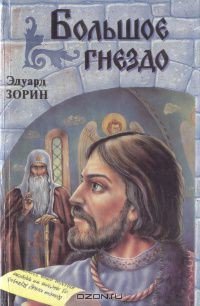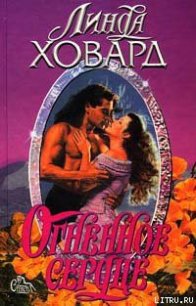Огненное порубежье - Зорин Эдуард Павлович (читаемые книги читать онлайн бесплатно .TXT) 📗
Только что Зихно радовался приходу игумена. Поликарп казался ему смиренным и добрым старичком: спина согбенная, голос тихий, глаза кроткие, с поволокой.
Но, разглядывая выполненную с утра роспись на стенах трапезной, игумен вдруг обрел властную жесткость: черты лица окаменели, глаза хищно ощупывали стены, жилистая рука сжала посох так, что на суставах проступили белые пятна...
Зихно был человеком веселым и не умел отчаиваться. Потолкавшись из угла в угол поруба, он опустился на корточки. А едва сел и закрыл глаза, окутали его приятные воспоминания.
Привиделась ему купеческая дочь Забава — полненькая, румяная, с ямочками на пухлых щечках, с ровными рядочками белых зубов под чуть привздернутой верхней губой. Забава прибегала к нему на речку в кусты — там он ласкал и целовал ее до самого утра. А утром помогал ей перелезть через высокий забор и ждал, пока она не проберется в светелку и не помашет ему из оконца рукой. Однажды их подстерег брат Забавы и натравил на Зихно собак. Они изодрали молодого богомаза так, что он две недели отлеживался с примочками на раненых ногах.
Забаву Зихно нарисовал на стене надвратной церкви в образе белокурого ангела, парящего в облаках над постным ликом святого Луки.
Жена златокузнеца Мосяги Ольга наделила своими чертами святую великомученицу Варвару: черные брови, прямой нос с приподнятыми крыльями ноздрей, лукавая усмешка в уголках четко очерченных губ.
Узнав о блуде жены, Мосяга выследил их у квасовара Гостены: на этот раз Зихно посчастливилось уйти от расплаты. Подговоренные златокузнецом мужики ввалились в избу со двора, а богомаз ушел огородами.
Крепко осерчал Зихно на Мосягу — оставил о нем память и в Новгороде на стенах святой Софии, и в Печерской лавре: козлоногий черт с седенькой бородкой, кадык торчит, словно камень в горле застрял, глаза выпученные, зверины.
Но больше всего любви и мастерства вложил Зихно в лик святой Марии. Писал ее — и грезилось наяву: могучий Волхов несет свои воды в Ильмень-озеро, белые бусинки звезд купаются в глубине. И лодка словно парит между звездами и водой. Только слышится плеск весел да темнеется застывшая на носу тоненькая фигурка в белом сарафане, в надвинутом на лицо белом платке. Хоть и не видит Зихно глаз молодой посадницы, а помнит, как смотрела она на него в церкви, когда он, пристроившись на лесах, подновлял роспись стены дьяконника. Искала она отца, а нашла суженого.
В тот же вечер обнимал ее Зихно у святых врат. А другою ночью увез, к себе в избу за Волхов, там и зоревали они, шалея от счастья.
У самого сруба под волоковым оконцем плескалась река, ветер задувал в избу щемящий запах свежескошенной травы, под полом попискивали мыши, скреблись в подгнившие доски, в углах шуршали тараканы. А они лежали в теплой овчине, задыхаясь от поцелуев, и ничего не слышали и не видели вокруг себя.
Наутро, расчесывая волосы, Валена, потухшая, сидела на лавке и потерянным взглядом рассматривала
разбросанные по неметеному полу кисти, измазанные краской стены и голосом, охрипшим за ночь, удивленно выговаривала:
— А нехристь ты, Зихно. Знамо, нехристь.
Почесывая голые ноги, Зихно дивился:
— С чего это ты, Валена? Вот крест нательный, кипарисовый, самим владыкой за труды даренный... Хошь, перекрещусь?
— Нехристь, как есть нехристь,— твердила свое Валена.— И образов нет у тебя в красном углу, и лампадка не теплится. Ровно волхв, живешь.
— А это что? — начиная сердиться, спросил Зихно. Он указал на доски, расписанные им накануне и расставленные по лавкам для просушки.
— Бесовское твое ремесло,— с досадой плюнула посадница.— Нешто такими-то были святые?
— А ты их зрила?— спросил Зихно.— Может, ты святая и есть...
— Грешница я,— оборвала его Валена.
— Не грешница, а лада, — попытался обнять ее богомаз. Она отстранилась от него и стала поспешно одеваться.
— Ты что?!— испугался и удивился Зихно.
Опалила его Валена незрячим взглядом и вышла из избы. Оттолкнула лодочку от берега, взмахнула веслом — и исчезла в клочкастом тумане.
Извелся Зихно от тоски. Валилась работа у него из рук, ходил он вокруг избы посадника, все надеялся: увидит его Валена. Уж после узнал, что уехал посадник к чуди и жену взял с собой.
Совсем лишился Зихно покоя, думал с другими бабами утешиться, да где там!.. Все не шла у него из головы молодая посадница.
Запил Зихно, дрался с мужиками на кулачки, бросали его с моста в Волхов, едва жив остался — отходили его в монастыре, сам владыка навещал, развлекал богоугодными притчами, терпеливо наставлял на путь истины. И приступил богомаз к работе. Под самым куполом, где гулко гуляли ветры, писал он свою Марию. Сердцем писал, а не красками. Сидел, сгорбившись, на помосте, руки согревал дыханием и думал: а в чем она, истина, в чем святость? И постом истязал себя, и молитвами.
Радовался владыка: лепота! Бояре, приходившие взглянуть на роспись, истово крестили лбы: лепота!..
Но наутро, когда ушел он из Новгорода, когда приехал Илья с Боярским советом еще раз полюбоваться обновленными ликами святых,— красовалась на алтарной стене, где положено быть богоматери, посадница Валена, ни дать ни взять живая: с искринкой в глубине грустных глаз, с блудливой улыбкой на сочных губах — бейте лбы, молитесь, святые и грешные, аз воздам.
Кинулись за богомазом на резвых конях церковные служки, а что толку? Поднялась трава на его следах, смыли их на речном песке осенние дожди...
И снова загулял Зихно. Так загулял, что самому тошно стало. Пропил однорядку, пропил и кипарисовый крест, подаренный Ильей. А потом, избитый соляниками, заподозрившими в нем татя, явился в Киев, постучал в ворота Печерской лавры.
Обласканный Поликарпом, взялся было Зихно за ум. Приглянулся он игумену: кроток, умен, начитан. А уж богом данное — богово. Мастером был Зихно отменным: так распишет стены, что краше греческого: там пустит по белому полю коричневую краску, здесь разбавит ее серо-розовой, где плеснет и желтизны. Всего в меру, а окинешь взглядом — сердце радуется.
Зима прошла в трудах. А с первой весенней капелью опять затуманило Зихно глаза, ударила в виски забродившая кровь — и опустели под куполом леса, высохли краски, паутиной затянуло кисти.
Повадился ходить Зихно в мир, прельщать молодых девиц. О том доносили игумену. Поликарп дивился: и откуда в смиренном богомазе такая удаль?.. Пробовал увещевать Зихно, читал ему выдержки из святого писания. Но, когда, загрустив, за одно утро разукрасил богомаз стены чернецкой обители непотребными ликами, осерчал игумен.
...Лежал Зихно в порубе, вспоминал сладости привольной жизни и улыбался.
Утром пришли за ним два дюжих монаха, вытащили его на свет, вывели за ворота лавры, надавали затрещин и бросили вслед покатившемуся под горку богомазу его худой мешок с красками и кистями.
2
Хорошо летом в лесу — сухо, духмяно. В зарев комарье уже отошло, дышится легко; каждый листик, каждая травинка будто звенит в прозрачном воздухе. Полянки выстланы плотной травой, под кустами, в тени, пахнущей перегноем, притаились, прижались друг к дружке, будто малые зайчата, коричневые грибы с масляной блестящей головкой. Срежешь один гриб, срежешь другой, поглядишь по сторонам, а их видимо-невидимо по всей полянке разбежалось: только бери, только бросай в корзину. Обойдешь таких три-четыре куста — и можно домой поворачивать: грибы некуда класть. А дома вздуешь в печи огонь, начистишь грибков, нагрузишь на сковороду большой горой — аж дух захватит от такого лакомства... Хорошее, славное дело — грибы. Без грибов на исходе лета лес скучный. Грибы да ягоды — забава старому и молодому. А бруснику не только бабы, но и мужики выходят заготавливать впрок. Хорош из брусники настой, а квас и того лучше...
Раненько поутру шел Зихно через лес. Долго добирался он до Москвы. Пробовал осесть в Чернигове, однако до черниговского епископа уж докатилась о нем молва, и к руке своей богомаза он не допустил. Потолкался Зихно по монастырям, но и в монастырях отвечали одинаково: «Богомазы нам не нужны». Тогда вскинул он на плечи мешок с кистями и красками и подался на север. Где к мужицкому обозу пристанет, где к купцам...