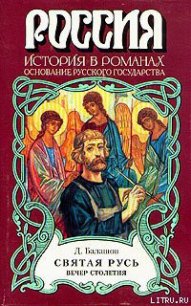Отречение - Балашов Дмитрий Михайлович (версия книг .TXT) 📗
Как было, в самом деле, не поверить, что и тут все возможно легко изменить, стоит только слегка подтолкнуть одного и так же слегка, играючи, помочь другому… А тех сил, которые растут и крепнут внутри общественной системы, их попросту до времени не видать, и лишь чуткий взор художника может ощутить, почуять неведомое, незримое ни политику, ни даже торговому гостю, ибо взгляд человека видит сущее, но не то, что может из него произрасти в потоке времен.
Только так можно понять и постичь поступок сурожского купца Некомата, богатого гостя и землевладельца, имевшего села под Москвой и рискнувшего всем ради иллюзорной, как оказалось, выгоды, а восемь лет спустя схваченного и казненного на Москве.
Не то следовало выяснять, кем был Некомат: греком, генуэзцем или восточным купцом, католиком или несторианином. А то, кто же стоял за его спиною. Какие силы подвигнули этого Некомата — «бреха», по выражению московского летописца, — затеять и совершить то, что затеял и совершил он, как оказалось потом, на свою собственную гибель.
А потому воротимся в степь, где Мамай рвет и мечет, получив сведения о гибели своей тысячи и пленении послов (убийство Сарайки, еще не совершенное, послужит последнею каплей, и потому возможно подозревать, что все нити тут были связаны воедино и поступок Кирдяпы был заранее взвешен на тех же тайных весах), и давно уже плетется незримая сеть, в которой отсутствовало до сих пор одно лишь необходимое звено: согласие владыки Орды на борьбу с великим князем владимирским. Теми же тайными силами Некомату предназначалась та роль, которую с успехом выполнил двадцать лет тому назад генуэзский торговец, патриций и пират, Франческо Гаттилузио, доставивший на своих кораблях Иоанна V Палеолога в Константинополь.
…Идут караваны, едут, замотавши бритые лица в русские меха, посланцы римского престола, трясутся верхом полномочные и неполномочные послы Генуэзской республики, пробираются сквозь немыслимые пространства гор, степей и пустынь, гонят рабов на Кафинский рынок. Их жестокие суровые лица, лица из одних скул, мускулов и костей, упрямые подбородки, лица людей, готовых ко всему на свете, торгашей и воинов, людей скупых и бестрепетных, изобразила рука художника Возрождения, а полуистлевшие счетные книги донесли до нас опись покупок и продаж, бухгалтерский итог грабежей и насилий: столько-то захвачено, столько-то продано в Египет, в Италию, Испанию по цене стольких-то дукатов и стольких-то маркетов или греческих иперперов…
Схизматики — как это итальянцы видели в Константинополе — не заслуживали уважения. Греки не умели драться и разучились торговать. Греческая церковь поддерживала свое существование подарками и милостыней из далекой Руссии, в которой тоже идут бои местных володетелей-князей друг с другом; и от великой Орды, от властительного темника Мамая зависит, в конце концов, кого поставить князем в русской земле! Так казалось, так было, так думали и считали многие, ежели не все. А значит, надобно подвигнуть Мамая к борьбе с упрямым Дмитрием и его стариком митрополитом, каковой единственно препятствует делу крещения Руси по католическому обряду и даже, помогая русским серебром византийцам, препятствует распространению унии в империи… Токмо подтолкнуть, а далее — само пойдет!
Работают торговые конторы, едут клирики и скачут гонцы, плетутся соглашения и подкупы, выстраивается великий торговый путь: из Кафы в ордынские волжские города, затем в Рязань, Москву, Нижний, Кострому, Тверь, Великий Новгород… Ежели бы возможно было обратить эту землю в источник дешевого сырья, — мечтают фряжские, всех мастей, гости, — вывозить отсюда меха, воск, сало, лен, лес, рыбу, серебро, содеять эту страну колонией Запада! Для сего, повторяют настойчиво прелаты, надобно подчинить землю Руссии власти римского престола, приобщить славян культуре Запада. Распространить здесь католичество, европейские законы, обычаи и нравы, дабы отнять у русичей всякую волю к сопротивлению… И содеять это так просто!
За спиною сурожского гостя Нико Маттеи, «Некомата-бреха», стояла вся тогдашняя католическая Европа, деловая, жадная и жестокая, которая скоро подчинит Америку и начнет победный марш завоевателей по всему миру, неся просвещение пушек, водки, сифилиса, оспы, рабства и угнетения всем нациям и народам земли.
За спиною! Но выполнить первое из потребных деяний должен был он. Скажем точнее — обязан был выполнить! У него не оставалось иного выбора. Отказавшись, он наверняка рисковал всем, включая собственную жизнь.
А теперь добавим только, что соглашение с Мамаем состоялось, что, возможно, и действия Василия Кирдяпы были подготовлены или учитывались той тайною третьею силою, которая решила повернуть по-своему историю Владимирской земли, не ведая, что такое Русь, не понимая, что это совсем не усталая, потерявшая веру в себя и отвыкшая драться Византия, граждан которой не надобно было даже науськивать друг на друга — сами готовы были изничтожить ближнего своего!
ГЛАВА 73
Иван Вельяминов, получив вести о том, что должность тысяцкого упраздняется, заперся ото всех, предоставив течение дел княжеским дьякам. В нем медленно изгибали, перегнивая и отравляя мозг ненавистью, его гордость, его вера, весь смысл его бытия, ибо уже далеко не первый год он не только считал себя, но и был тысяцким града Московского, и глядеть теперь в эти ждущие лица, угадывать за показною скорбью тайные насмешки, встречать жалость там, где привык видеть почтение и страх, глядеть в глаза вчерашним послужильцам, старостам, вирникам, мытникам, сбирам, ключникам и каждому объяснять, что он нынче никто и они уже не связаны с ним тысячью нерасторжимых уз, обязанностей и приятельств, — лучше бы Дмитрий назначил иного на его место! Было бы кого ненавидеть, было бы кого убить, ежели не стихнет душа!
Все родственники, дядья и братья, пытавшиеся уговаривать, убеждавшие претерпеть, заняться иным делом, — отступились. Неслыханно богатый наследник мог себе позволить решительно все. Не было среди утех земных ничего, что, возжелав, не смог бы он получить. И токмо одного, единственно надобного ему, был он лишен — власти!
А без власти все иное не занимало Ивана. Он сидел и думал. И в воспаленной голове рождались чудовищные образы, рушились и возникали миры… Он только что помогал князю Дмитрию совокуплять землю, организовывал съезд князей, и вот стал ненужен, ненадобен! Что он теперь? Что делать ему? Драться Святками на кулаках со смердами на льду Москвы-реки? Бешено гонять в ковровых санях с колокольцами, загоняя кровных рысаков? Собирать редкости, из иных земель привезенные? Что все это было ему, приученному и привыкшему к деянию!
Он сидел один, с омерзением оглядывая роскошь покоя, бесценные ковры, серебро и фарфор, резную кость и драгоценные сосуды… Даже иконы, способные потрясти знатока, не рождали в нем высокого чувства отречения. Только большой белый хорт, разлегшийся у ног господина, порою преданно заглядывавший в его отуманенные глаза, только он еще вызывал рассеянное снисходительное внимание Ивана Вельяминова. Жена и сын боялись к нему заходить.
В эти-то черные дни и объявился в вельяминовских хоромах Некомат-брех, пробившийся сквозь заплот придверников и холопов, коим велено было никого не допускать к господину.
Скрипнула дверь. Иван поднял холодные, усталые глаза.
— А! — Бессильно опущенная его рука ласкала голову собаки.
Купец поклонился по-русски, в пояс.
— Чего тебе, Некомат? — вопросил Иван с ленивою тоскою в голосе. — Я же велел…
— Ведаю, ведаю! — живо подхватил черноглазый посетитель и, запахивая зипун, остро взглядывая на поверженного московского вельможу, уселся, повинуясь знаку Вельяминова, на краешек перекидной узорной скамьи.
— Однако в нынешней горести могу предложить господину… Ведаю! — вскричал он, предупреждая нетерпеливое движение Ивана. — Пото и пришел, потому и пришел! Горести тысяцкого Москвы — наши горести! — Некомат подчеркнул голосом слово «наши». — Несправедливость от князя все равно является несправедливостью и должна быть наказана! Во всех землях удивлены таковым решением великого князя Дмитрия! Купцы недоумевают, полагая, что совершенное совершено единственно из скупости и что князь завидовал доходам и славе своего тысяцкого?