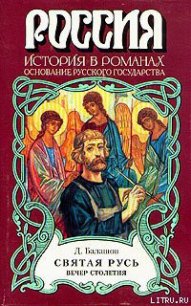Отречение - Балашов Дмитрий Михайлович (версия книг .TXT) 📗
Бояре, наблюдавшие эту сцену, понимали, что присутствуют при очередном дальнем замысле Алексия, и потому все в очередь почтительно приветствовали одетого в простое суконное дорожное платье и лапти русоволосого инока. Впрочем, молва о Сергии разошлась уже достаточно широко и многие из бояр приветствовали радонежского игумена с почтением неложным.
Дмитрий глядел на рослого сухощавого монаха, который когда-то являлся к ним в княжой терем, с опаскою. Увидел и лапти, и грубый наряд и, достаточно начитанный в «Житиях», заметя к тому же общие знаки внимания, так и решил, что перед ним живой святой, и потому облобызал твердую, мозолистую, задубевшую на ветру руку Сергия истово и прилежно.
Сергий чуть-чуть улыбнулся коренастому, широкому в кости подростку, благословил князя и молча занял предложенное ему место за пиршественным столом, хотя пил только воду и ел только хлеб с вареною рыбою. Дары, содеянные многими боярами во время и после трапезы, распорядил принять своему келарю и троим спутникам, пришедшим вместе с ним, тут же наказав не забыть купить воску и новое напрестольное Евангелие для обители.
Пир и чести были ему в тягость, но он понимал, что все это надобно Алексию, как и прилюдная, ради председящих великих бояр, встреча с князем, коего он уже видел прежде и с большею бы охотою встретил опять в домашней обстановке, а не на княжеском пиру.
В этот вечер Алексий особенно долго стоял на вечернем правиле. Долго молился, а окончив молитву, долго еще стоял на коленях перед иконами, закаменев лицом. И не о Господе думал он, не о словах молитвы. Иной лик стоял пред мысленными очами владыки, и лик тот слегка усмехался ему в полутьме покоя, ибо был то лик покойного крестного, Ивана Данилыча Калиты.
— Здравствуй, крестник! — услышал он тихо-тихо сказанные слова.
— Здравствуй, крестный! — ответил покорно и ощутил позабытое детское волнение во всех членах своих и в глубоком строе души.
— Ну как тебе, крестник, ноша моя? — вкрадчиво вопросил голос. И, не добившись ответа, выговорил опять: — Тяжело тебе, крестник?
— А тебе? — ответил Алексий, с трудом размыкая уста.
— Мне тяжело!
— И мне тяжко! — эхом отозвался Алексий.
— Веришь ты по-прежнему, что ко благу была скверна моя? — вопросил голос.
— Но ведь не свершилось нахождения ратей, ни смерды не погинули, и растет, ширит, мужает великая страна! Погоди! Не отвечай мне! Ведь иначе мы уже теперь были бы под Литвою!
— А цена власти? — вопросил вкрадчивый голос. — В грядущих веках?
— Царство пресвитера Иоанна, Святую Русь, страну, где духовное будет превыше земного, мыслю я сотворить! — ответил сурово Алексий, подымая лик к иконам и вновь ощущая на плечах груз протекших годов.
Свеча совсем потускнела. Все было в лиловом сумраке, и то неясное, что мглилось пред ним, будучи призрачною головою крестного, издало тихий, точно мышь пискнула, неподобный смешок.
— А создаешь, гляди-ко, твердыню земной, княжеской власти! Чем станет твоя Святая Русь, егда восхощут цари земные сокрушить даже и православие само?!
— Ты что, видишь… ведаешь грядущее, крестный? — вопросил смятенно, покрываясь холодным потом, Алексий.
— Я не вижу, не ви-и-ижу-у-у… Не вижу ни-че-го! — пропела голова, и голос теперь был не толще комариного писка. — Мой грех, крестник, неси теперь на себе, мой грех!
Станята, подошедший к наружной двери моленного покоя, дабы позвать наставника ко сну, услышав два голоса, остоялся и вдруг на ослабевших ногах сполз на пол, часто крестясь и беззвучно творя молитву…
ГЛАВА 19
Исстари так ведется у людей, что обмануть недруга, чужака, иноверца кажется допустимее, чем обмануть ближнего своего (хотя обманывают и тех и других достаточно часто). Есть моральные системы (иудейская, например), целиком построенные на исключительности своего племени, внутри которого недопустимы никакие нарушения этических норм, а вне, с иноверцами, «гоями», дозволены и ложь, и клевета, и обман, и предательство, и преступление на том лишь основании, что гои — не люди.
Справедливости ради заметим, что неполноценными людьми, варварами считали окружающих их инородцев и древние китайцы, и эллины, и скифы, и египтяне, и римляне. Словом, всякая нация, добившаяся ощутимых успехов на поприще цивилизации и военного дела, не была свободна в той или иной мере от пренебрежительного взгляда на более «примитивных» соседей, дозволяя относительно их поступки, предосудительные в своей среде.
Мораль подобного сорта, впрочем, спорадически возникает в людских сообществах и доныне, там и здесь, прикрываясь любыми подходящими к случаю объяснениями религиозного, сословного, национального или классового, корпоративного характера. Таковы были едва ли не все тайные организации от ассасинов и тамплиеров до масонов и современных мафий. Представление о принципиальном равенстве несхожих между собою наций, рас и культур и до сих пор еще не стало достоянием большинства.
Что тут сказать! При всем различении ближних и дальних, своих и чужих, различении необходимом и неизбежном, мораль должна быть единой. Для всех. И рыцарь, подавший напиться раненному им в поединке противнику, и полководец, обещавший милость побежденному городу, который открывает ему ворота после долгой осады, надеясь на слово врага (а победитель сдерживает свое слово!), и купец, возвращающий свой долг конкуренту по сгоревшей на пожаре грамоте, и врач, оказывающий медицинскую помощь солдату вражеской армии, и, словом, всякий, в ком есть истинная честь, понимает это достаточно хорошо.
Может ли политика, спросим о том еще раз, как спрашивали уже неоднократно, быть в абсолютном ладу с моралью?
Обман противника на войне диктуется военной необходимостью и входит в понятие стратегии. Но где допустимый предел обмана в дипломатической игре?
Монголы, например, применявшие неисчислимые воинские хитрости, очень твердо хранили закон о дипломатической неприкосновенности послов, не прощая нарушений этого правила ни себе, ни другим, и, кажется, почти выучили в конце концов этому правилу несклонную к нему прежде Европу.
Митрополит Алексий, человек высокой культуры и высокого этического парения, понимал, что он, подписывая договор с Мамаем, нарушает тем самым свой тайный уговор с Мурадом, продавая этого заяицкого хана в руки его недругов, то есть совершая предательство, непростительное уже по одному тому, что поводов к нему хан Мурад Алексию не подавал. Вот почему ему и привиделась на молитве усмехающаяся голова крестного. Князь Иван радовался тихо за гробом, что крестник, взявший на себя его крест, вынужден теперь поступать так, как поступал при жизни сам Калита.
Дьявол — это нежить, бездна, эйнсоф, пустота, сочащаяся в тварном пространстве вселенной. Но движение в тварном мире невозможно без наличия пустоты. И потому всякое действование подстерегает грех. И всякое желание насильно изменить сущее греховно по существу своему.
Александр Невский многие деяния свои оправдывал единою мерою: «Никто же большей жертвы не имат, аще отдавый душу за други своя». Но отдать душу
— не значит ли впасть в грех непростимый?
Нынче митрополиту Алексию приходило воспомнить эти слова. Взяв на рамена крест Калиты, Алексий не устрашился ни греха, ни воздаяния. В Орду были посланы тайные гонцы, и в том, что Мурад был в конце концов убит своим главным эмиром Ильясом, возможно (мы не утверждаем этого), участвовало русское серебро. Впрочем, то же самое русское серебро могло быть получено Ильясом и от Мамая!
ГЛАВА 20
Князь Дмитрий Константинович Суздальский ровно ничего не понял, кроме того, что москвичи лестью и мздою получили у хана ярлык. И потому обрадован был безмерно, когда взбешенный Мурад послал ему в свой черед ярлык на великое княжение владимирское. Ярлык привез посол Иляк note 1 в сопровождении тридцати татаринов и князя Ивана Белозерского, что обивал пороги в Орде, выпрашивая у хана свой удел, отобранный некогда москвичами.
Note1
Ежели, как предполагает исследователь Н. Я. Серова, этот Иляк и Ильяс одно и то же лицо, то подкуп Ильяса москвичами с целью убить Мурада становится более чем вероятен.