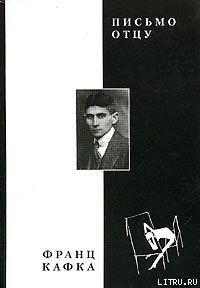Хмель - Черкасов Алексей Тимофеевич (читать книги онлайн бесплатно полностью TXT) 📗
Тимофей открыл офицерскую сумку, достал бумаги и, придвинул лампу, прочитал:
– «Это было пятого декабря тысяча девятьсот семнадцатого года. Среди ночи в окно дома бабки Ефимии в Белой Елани кто-то постучал три раза. Дарья Елизаровна сидела со мной на постели. Она сразу поднялась на стук и сказала: «Это святой Ананий», – и потом ушла. До утра Дарья Юскова не возвращалась…»
– Неправда! Вероника Георгиевна не могла дать такое показание.
– Вы с ней встретитесь на очной ставке, – ответил Тимофей, пряча бумаги в сумку. – Она показала еще, что вы втянули ее вступить в «Союз освобождения России…» и она вам помогла собрать золото у миллионщиков, которое вы увезли в Красноярск отцу Мирону – полковнику Толстову. Полковник Толстов не мог примириться с народной властью. Ему достаточно было одной революции – буржуазной, Февральской, она его вполне устраивала: миллионщики оставались при своих миллионах, полковники Толстовы у власти, ну, а народ от такой революции получил только шиш, голод и разруху… Дарьюшка не утерпела:
– А что народ сейчас получил? От вашей революции? Кругом жестокость. Одна жестокость!
– Жестокость? – Тимофей поднялся, уставился на Дарьюшку, как бы взвешивая ее слова. – Революция не без жестокости. Ну, а разве ваш союз не призывал народ к восстанию? Против кого восстание? Против большевиков? А кто такие большевики? Мы что – дворяне, князья, капиталисты? Разве я не своими руками ковал железо в кузнице? Может, за меня работал кто из миллионщиков, а я чужими руками я; ар загребал? Ну, а что получил народ от своей революции – разве вы этого не видите, даже здесь, в Белой Елани? Народ взял власть в свои руки, он стал хозяином своей жизни. И голод и разруху народ сам одолеет. Без Толстовых и без капиталистов. Пусть только господа не стреляют нам в спину и в затылок.
То же самое говорил Грива…
– Не верю в слова, не верю, – проговорила Дарьюшка, не в силах поднять глаза на Тимофея. – Я никогда не примирюсь с жестокостью, никогда! За что расстрелян Арзур Палло? За что? За то, что не принял власть большевиков?
– Как?.. Арзур Палло? – выпрямился Тимофей. – Когда расстрелян? Кем?
Голос Дарьюшки зазвенел, как медный колокольчик:
– В Петрограде! В подвалах ЧК. Тимофей помолчал, спросил глухо:
– Кто вам сказал об этом?
– Аинна Юскова, жена Палло. Вы же знаете Аинну.
– Да, да, знаю… Ну, а насчет Арзура Палло… Тимофей расстегнул шинель, достал какие-то бумаги в твердых корках, порылся в них и вытащил фотокарточку.
– Узнаете? Прочитайте па обороте.
На фотокарточке, величиною с мужскую ладонь, на приступках какого-то здания стоят двое, плечом к плечу. И эти двое – Арзур Палло в тех самых крагах, в мексиканской куртке с теплым шарфом па шее, а рядом он, Тимофей Прокопьевич, в шинели и в ремнях, в папахе. Точь-в-точь как перед Дарьюшкой. На обороте карточки надпись рукою Арзура Палло: «Торжествуем, друг мой Тимофей! Наша пролетарская социалистическая революция совершилась. Да здравствует мировая социалистическая революция! Будем ее верными солдатами до конца своей жизни. Арзур Палло». А еще ниже дата: «13 ноября 1917 года, Петроград».
– Как же… как же Аинна… – бормотала Дарьюшка, возвращая фотокарточку…
– Аинна Юскова выслана из Петрограда за участие в заговоре юнкеров.
Дарьюшка попятилась на шаг, прижалась спиной к простенку двух окон, глядя округлыми глазами на бровастое заветренное лицо Тимофея с глубоким шрамом. И это лицо – единственное из всех живых – стало ей до того близким, что на глаза ее навернулись слезы. Она его предала, Тимофея, попрала его имя в доме миллионщика Юскова, пригретая убийцей-барыней Евгенией Сергеевной и своей подругой Аинной, которая оказалась обманщицей. Разве не Дарьюшка в прошлом году в декабре вместе с Аинной оплакивала гибель Арзура Палло, и Аинна – лгунья, так искренне изображала скорбь по убиенному мужу. И разве не Дарьюшка потом пришибла доверчивого таежного человека Гавриилу Гриву, подрезала ему крылья, и он вернулся в ту ночь вдрызг пьяный, рыдающий, проклинающий убийц брата…
«Ложь, ложь, все ложь и ложь, – отслаивалась горечь на сердце Дарьюшки. – И святой Ананий, и «божьи письма» к народу – все ложь, ложь! Да если это правда, что святой Ананий – Потылицын… О боже! Пусть он меня убьет, Тимофей Прокопьевич, только он, и я приму смерть с радостью. Я погубила Гриву. За что?..»
Она звала к себе Тимофея, а приходил Грива, и она закрывала глаза, воображая, что с нею он – единственный, кого она любит. «Лгунья, лгунья…» И слезы покатились по впалым щекам Дарьюшки.
Все произошло в какую-то минуту, и Тимофей, глядя на мгновенную перемену в лице Дарьюшки, невольно подумал, что эту заплутавшую мятежную душу втянули с головой в контрреволюционный заговор, воспользовавшись ее откровенной доверчивостью, и она не то что заблудилась, а погибла, как пичужка в тенетах.
«Ее окончательно доконали, – трудно подумал Тимофей. Он не в силах был обвинять Дарьюшку, он просто не мог уверовать, что она на самом деле такая опасная преступница, какой изобразила Дарьюшку Вероника Самосова. – Эсерка выкручивается, как подлая тварь. Если явится председатель УЧК, он не очень-то поймет ее, улик достаточно. Но я знаю ее лучше всех и не могу так оставить». Он чувствует, что она сейчас в таком состоянии, когда смерть не пугает, а зовет ее, как красную гостью.
– Инженер Грива ни в чем не виноват, клянусь вам, – дрогнувшим голосом проговорила Дарьюшка, смахивая на пуховый платок слезы. – Это я втянула его в «Союз освобождения». Я сказала ему про Арзура Палло. Он не хотел верить. Потом пришел в дом Юсковых, и то же сказал ему дворник. Это сама Аинна всем говорила про расстрел Арзура Палло, она в соборе заказала службу по убиенному. О, боже! Ложь, все ложь и ложь!..
Как-то сразу весь ее внутренний мир распался на какие-то странные осколки, наподобие разбитого зеркала; и в каждом осколке она видела себя, и в разных лицах: то юная, беспечная, на парадной лестнице в женской классической гимназии; то совсем девчонка, в батистовом платьице, отличница приготовительного класса; то с растрепанными волосами на лужайке в девичьем хороводе; то в дворянском собрании на выпускном вечере – сияющая, счастливая, и все были уверены, что она получит золотую медаль. Но ее обошли. За что обошли? Она горела, как факел, когда читала «Марсельезу», и ей хлопали, ликовали. А потом вместо золотой медали – серебряную. Кто-то сказал: «За «Марсельезу» посеребрили…»
И так пошло. Наказание за наказанием. За добро – злом; за откровение – хитростью; за мягкосердечие и участие – жестокостью.
– Не хочу жить, не хочу! – с болью выдохнула Дарьюшка.
Тимофей взял ее за руки; она вырвала их:
– Не надо, не надо. Не пачкайтесь, Тимофей Прокопьевич…
«Нельзя ее оставить под замком в таком состоянии, – подумал Тимофей. – Я не могу ее оставить».
– Как здоровье бабушки Ефимии? – спросил нарочито спокойно, чтобы размыть мрачные мысли Дарьюшки.
– Что? Что? – не поняла она, хмуря высокий лоб. – А… она здорова. Была здорова.
– Вы в ее доме живете?
– Я? Нет. Нигде. Здесь! – и показала рукой, думая о чем-то совсем далеком. Слова как будто не доходили до ее сознания. Все слова, слова, одни пустые слова… Она, Дарьюшка, верила в пустые слова, исповедовала Слово божье, а Слово было мертвым; со Словом божьим творил зло «святой Ананий»…
– Пойдемте к бабушке Ефимии, Дарья Елизаровна. Там вы отдохнете, выспитесь…
III
На улицах куражился мороз – колючий и жесткий, сизый в накале, железный.
Они шли двое – чужие и близкие; снег сухо скрипел сод ногами.
Тимофей говорил о Петрограде, о Ленине: и что он за человек, Ленин – настоящий вождь пролетариата, а он, Тимофей, приехал в Минусинский уезд по поручению Петроградского Совета – достать хлеб для голодающего Питера. Мрут малые детишки, рабочие пухнут с голоду, а в Сибири много хлеба, и этот хлеб надо дать голодным.