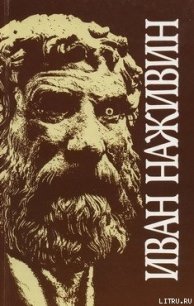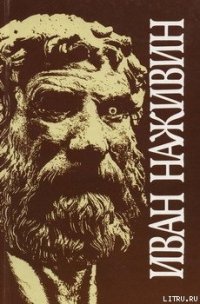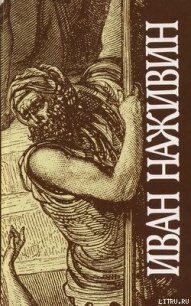Глаголют стяги - Наживин Иван Федорович (серия книг TXT) 📗
— Я… я говорил, что мёртвых… трогать нельзя… — едва выговорил синими губами Урень, забыв, что он говорил совсем другое. — Он, — кивнул он на каменного истукана, — поставлен тут не зря…
Испуганный Берында скатился с кургана и, поняв, в чём дело, с сумасшедшим криком бросился в степь. Но сейчас же спохватился и бросился к лошадям. Варяжко одним взглядом убедился, что о спасении Даньслава и думать было нечего. Вид бестолково суетившегося вкруг лошадей — они тоже забеспокоились — Берынды захватил обоих таким леденящим ужасом, что, побросав все, они бросились к коням и через минуту уже летели росистой солнечной степью во весь мах прочь от страшного кургана и его каменного стража… А в могильнике в ужасе неимоверном, задыхаясь, из последних сил метался Даньслав, и тихо гасла в нём последняя думка о красавице Рогнеди…
XXI. ОТ ПОБЕДЫ К ПОБЕДЕ
Боян же, братие, не десять соколов на стадо лебедей пущаше, не своя вещие персты на живыя струны вскладаще, они же сами князю славу рокотаху…
Таким образом Володимир, простоватый и безграмотный парень, волею судьбы стал один на челе молодой Русской земли, земли с очень туманными рубежами, земли без всяких законов, кроме стародавнего обычая, крика бестолкового веча да усмотрения князей и их тиунов, земли с надтреснутой душой, в которой глухо боролась вера старая, дедовская, с напиравшей из-за моря верой новой. На стол великокняжеский провела Володимира Русь старая, языческая, и, чтобы оправдать её доверие, молодой князь прежде всего «постави кумиры на холму вне двора теремного: Перуна древяна, а главу его сребрену, ус злат, и Хорса-Дажбога, и Стрибога, и Симарьгла, и Мокошь, и хряху им, наричуще я боги, и привожаху сыны своя и дщери и жряху бесом и оскверняху землю требами своими — и осквернися кровьми земля Руска и холмот…» [6] Христиане киевские старались теперь не показываться и не дышать. И Федорок-Ядрей, двоевер, только теперь окончательно понял, как ехидны эти проклятые эллины, заманившие его в свои сети, и когда по весне появился снова в Киеве Ляпа, Ядрей хмуро избегал его: ему больше всего тяжело было то, что тот оказался прав. А ребятишки с Подола, дразня, кричали ему вслед: «Федорок… Федорок…» — и он, осерчав, грозил им издали лозой. Черномазый отец Митрей уже не раз и не два получил от них комком грязи в спину, и, вращая своими чёрными бешеными глазами, он клял эту нечисть и так и эдак… Добрыня уже вернулся в Новгород наместником князя и поставил кумир над Волховом и «хряху ему людье ноугородьстии аки Богу…».
Русь росла, крепла, выходила на большую дорогу. И хотя благочестивый летописец и уверяет, что «и бе Володимир, думая о строе земленем и о уставе земленем», делалось всё же это совсем не Володимиром. Хотя потихоньку, с годами он и умнел, но был он всё же слишком уж простоват. И больше всего привержен был он совсем не «строю земляному», а женщинам и вину. У него было уже несколько жён и бесчисленное количество наложниц — и в Вышгороде, и в Родне, и в Берестовом, и в Белгороде, и везде, — и при них были уже десятки «детинных кормилиц»: он старательно «распложал свою землю». И охотниц войти в ложницу русского князя было хоть отбавляй: литовская княжна Апракса три года молилась, чтобы попасть туда. «Там, в Киеве, стоят палаты грановитые, — говорила она, — там стоят луга красовитые, а у мово у сударя-батюшки, у мово короля любимова, палатишки стоят все пустешеньки, лужишки помяты да низешеньки…» И не совет длинноусых и чубатых дружинников, шумевший в гриднице княжой за чашей, делал это дело, и не веча, шумевшие и дравшиеся по площадям убогих городков, а делалось это дело теми таинственными и безымянными силами, которые движут жизнь миров и историю человеческую. Володимир, его дружинники и веча потому не могли делать того, что они делали, что для этого им нужно было бы понимание смысла истории, а смысл этот раскрывается обыкновенно только долгое время спустя после совершившихся событий, да и то далеко не всем. О ту пору разбросанные в бесконечности лесов и степей славянские племена бессознательно искали объединения — хотя сами часто и кроваво против этого единения восставали, как радимичи, как вятичи… — и Володимир, собирая землю, творил тёмную волю их, волю истории без всякого даже смутного понимания её. И если Святослав пардусом ходил по восточной украине земли Русской и мечом своим зарубал русское знамение по нижней Волге, по нижнему Дону, у зелёных предгорий Кавказа, то Володимир, творя эту волю, выступил против ляхов и отобрал у них старые русские города: Червень и Перемышль, Русь Червонную. И в тот же год он должен был идти ратью на всегда беспокойных вятичей и наложить на них дань отцовскую, по шлягу от рала. Подобно древлянам, они упрямо отстаивали свою независимость от Киева, и потому и на другое лето Володимир должен был идти на них и снова приводить их к повиновению той исторической силе, которая вела его.
И чрезвычайно знаменателен этот величавый рост русской силы даже в его ближайшем окружении. Приведённые им самим с Поморья варяги, среди которых было немало и чуждых по крови свеев, урманов, готов, и немцев, и доней, чувствуя себя господами положения, не только наводили, когда нужно, порядок, но производили немало и бесчинств всяких. И если один из витязей, Сухмантий, вызвавшийся добыть Володимиру живьём лебедь белую и потерпевший на охоте неудачу, боится с пустыми руками показаться на глаза князю, то, подпив, дружинники грозили иногда стрелять в гридню во столовую, убить его, князя Володимира, они бросали ему иногда в лицо румяное угрозу, что, ежели не сделает он по-ихнему, то прокняжит он в Киеве только «до утрия». И это вызывало досаду, и вокруг князя уже вырастала постепенно, незаметно чисто русская дружина, русские богатыри, и прежней воли морским волкам уже не было…
— Да что они больно величаются-то?.. — потихоньку, в уголках начали говорить русские дружинники. — Они на Русь без портков пришли. И конницу-то только у нас наладили… И хошь тех же свеев взять — пущай покажут они нам у себя хошь единый город, который с Киевом нашим вровень стать мог бы!..
— А знамо дело… — поддерживали со всех сторон. — Было время, когда хозары на наших полоняниках ездили, запрягши их, как вола или лошадь, а теперь хозара сама нам дань платит!..
— Старики сказывают, — вмешивался третий, которому тоже хотелось сказать о Руси что-нибудь гордое, — как пришли впервые к нам хозары. «Платите нам дань», — говорят… Подумали наши и решили дать по мечу от дыма… Ну, пришли те к кагану своему и хвалиться стали, что доискались-де новой дани в лесе, на горах, над рекою Днепрскою. И показали ему — мечи. И старцы хозарские подумали, подумали да и говорят кагану: «Княже, недобрая то дань! Мы доискались её саблей, которая остра с одной стороны, а это меч, который остёр с обеих сторон… Смотри: не пришлось бы нам платить дани им!..» На то и вышло…
Загрохотали, опёрлись на мечи, подбоченились:
— Мало ли их на Русь наскакивало, а где они теперь? Погибоша аки обры, как говорится…
— Ты только клич кликни по всей Руси: Волгу вёслами раскропим, Дон шеломами весь вычерпаем!..
И иноземные варяги чувствовали все острее, что почва из-под ног у них уходит, и потихоньку потянули вон. Князь и его советники осторожно отобрали из них тех, которые повернее, наградили их, дали им города в кормление, а остальных Володимир отпустил в Царьград: в гвардии императоров давно уже был варяжский отряд. А перед отходом их он послал царю тихонько грамотицу небольшую: «Вот идут к тебе варяги. Не держи их в городе: сотворят и тебе зло, как здесь. Разведи их розно, а сюда на Русь не пускай ни единого».
Володимир со своими богатырями вернулся из победоносного похода на ятвягов. По случаю этого было назначено всенародное молебствие перед Перуном. Кияне зорко следили теперь, чтобы эти баламуты-нововеры никаких козней не чинили и вместе со всею Русью поклонялись бы богам её. И вдруг заметили, что двое варягов, отец и сын, занимавшиеся торгом на Подоле с землёй греческой — таких гостей звали гречниками — на жаризну не пошли. Возбуждённые кияне сразу осадили их двор.
6
Это одно из измышлений смиренного летописца.