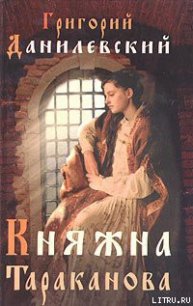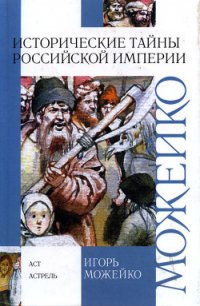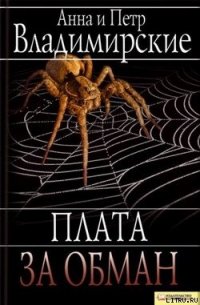Княжна Владимирская (Тараканова), или Зацепинские капиталы - Сухонин Петр Петрович "А. Шардин"
Она отпустила их, подав снова Алексею Орлову свою руку и удержав на секунду Григорья, чтобы осчастливить его более нежным знаком внимания. Но, проводив их, она ту же минуту велела позвать своего секретаря Одара.
«Добрые, хорошие люди эти Орловы! — сказала Екатерина, провожая их глазами. — И какие молодцы! Алексей кажется ещё удалее; зато Грегуар красавец и как сложен! Видно прямо, что они себя готовы не жалеть; но им кажется, что всё это так легко! Они говорят: нас сорок офицеров, у нас десять тысяч гвардии. И они думают, что с сорока офицерами и десятью тысячами гвардии можно перевернуть сорокамиллионное государство, победить двухсоттысячную армию. Нет, друзья, ценю вас, благодарю, но вы слишком молоды, чтобы на вас, и только на одних вас, опереться! Верно, что вы голов своих не пожалеете: но будет ли польза в том, что я подведу под плаху ваши головы? Положим, что с десятью тысячами мы захватим, арестуем императора, а там что? Что о таком захвате скажет народ? Что скажет духовенство, дворянство, сословия, войско? Что, если в ответ на манифестацию с десятью тысячами сенат объявит всех нас лишёнными покровительства законов, а синод предаст анафеме, как Стеньку Разина? Если Румянцев, Чернышёв, Пётр Панин поведут против нас свои корпуса, атакуют со всех сторон? Что ж нам, драться со всеми? Брать штурмом один по одному пятьсот городов русской империи?.. Говорят, у Елизаветы и тысячи человек не было! Да! Но у Елизаветы были права! Она была дочь славного государя, любимая и войском, и народом, шла против иноземного владычества, можно сказать выдуманного, сочинённого и уж, разумеется, народом нисколько не любимого. А я?.. Император — законный государь. Россия в течение восемнадцати лет признавала его своим великим князем, наследником престола. Она знает, что он Петру I родной внук. Правда, он делает всё возможное, чтобы она его возненавидела; но мне нужно много, очень много, чтобы она меня полюбила, а пока... Нет, не довольно одной силы, хотя, разумеется, и без силы нельзя, но нужно ещё кое-что, и я озабочусь, чтобы это кое-что было».
Вошёл Одар.
— Поезжайте к преосвященному Дмитрию и скажите, что я еду в Петергоф, приготовилась во всём, как он говорил, и прошу его заехать отслужить молебен в комнатах великого князя. Он же вчера чувствовал себя не совсем здоровым!
Одар скрылся, а Екатерина приказала ещё позвать воспитателя своего сына, бывшего перед тем нашим послом в Швеции, Никиту Ивановича Паника.
— Ну, Никита Иванович, — сказала она, когда тот вошёл, — садитесь рядком да поговорим ладком, по русской пословице!
И Екатерина показала ему место против себя, через столик.
Панин сел.
— Вы говорили мне, — начала Екатерина, — помните, о том, что будет ещё хуже! Согласитесь, что хуже того, что делается теперь, уже не может быть! Что это такое? Прусский союз против своих союзников? За что такой милый подарок всей Восточной Пруссии и Бранденбургии с Берлином прусскому королю, без всякого возмездия? Провинции эти были куплены русской кровью! И что такое за поклонение пруссакам и благоговение перед Фридрихом, к унижению России? Не далее как только при его деде, Петре Великом, прусский король считал себя счастливым, что может быть в числе подручных русского императора, а при прадеде его никто и не говорил о Пруссии и прусском короле иначе как о вассале Польши и одном из князей германских, могущих считаться разве с герцогом курляндским или графом лимбургским. Наконец, внутренние дела: Трубецкой из кожи лезет, чтобы придать им хоть какой-нибудь смысл, не тут-то было! Первому встречному голштинцу вздумается что-нибудь выпросить прямо в противоречие только вчера утверждённому, и вся работа, все соображения уходят в воду. Наконец, эта война за Шлезвиг, война, которая может поднять на нас всю Европу? Скажите, может ли быть что-нибудь ещё хуже? Я уже не говорю ни о приличии, ни об уважении к себе; не говорю о том, что не только я, но и великий князь подвергаются ежеминутно опасности быть заключёнными и сосланными по прихоти той же Романовны; не говорю, что вся гвардия обижена предпочтением голштинцев и назначением во главу ей человека, не служившего России никогда, — прусского генерала, стало быть недавнего врага и который не умеет даже говорить по-русски. Ну, Никита Иванович, скажите, может ли быть что-нибудь ещё хуже?
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})— Нет, ваше величество, должен отдать справедливость вашей проницательности. Император превзошёл всё, что можно было ожидать.
— Ну, так научите, что делать?
— Делать можно одно — изменить порядок правления, отменить абсолютизм и примениться во внутреннем устройстве к положению шведских штатов.
— Прекрасно! Но как это сделать?
— При всеобщем неудовольствии, думаю, это не так трудно. Заменить отца сыном и предоставить регентство в руки вашего величества, как это и предполагал, изволите помнить, Алексей Петрович Бестужев?
— И вы готовы мне в этом содействовать?
— Если ваше величество изволите принять мою программу, я сочту себя обязанным всего себя посвятить делу.
— Для спасения себя, для ограждения не только прав, но и личности моего сына я должна принять всякую программу, должна согласиться на все условия. Вот Орлов мне предлагает, чтобы ни голштинцев, ни лейб-кампании, этой гвардии в гвардии, не было; вы — отречение от абсолютизма; вероятно, преосвященный потребует возврата церковных имений и ещё чего-нибудь. Гетман тоже, верно, найдёт, что просить: наследственное гетманство, самобытность Малороссии. Но что бы кто ни требовал, я уверена, что требования эти будут направлены к общей пользе, и считаю себя обязанной исполнить их. Нужно только, чтобы все были готовы.
— Несомненно, ваше величество, мы приготовимся. Я уже говорил с Иваном Ивановичем Неплюевым, говорил с Волконским и, наконец, с его любимцами Вильбоа и Корфом. Все согласны со мной. Только и вам нужно решиться выбрать день.
— Я уже решилась, поэтому и пригласила вас. О выборе дня мне говорила княгиня, ваша племянница. Но, признаюсь, я не знала, могу ли я сказать ей. Она, разумеется, очень милая, меня любит, хлопочет и много помогает. Но она, как бы сказать, слишком ещё молода, слишком увлекается, так что, право, не знаю, можно ли на неё вполне полагаться. Притом положение при императоре её сестры... Знаете, Никита Иванович, в иных случаях я не то что недоверчива, но осторожна и не всё говорю, что знаю... Гвардия уже выбрала свой день, тот день, в который император решит её вести из Петербурга для войны с Данией... Если вы не находите ничего против...
— Если не раскроется как-нибудь вся наша махинация прежде, — улыбаясь, сказал Панин.
— Разумеется! Итак, решено! Я принимаю вашу программу. Вы мой?
— Душою и сердцем!
— И возьмётесь переговорить с сенатом и другими ближайшими лицами?
— Всенепременно, ваше величество! Я уже докладывал вам, что с большей частью лиц я уже говорил.
— Тогда благодарность моя и моего сына будет к вам беспредельна, и сын мой, насколько он будет в состоянии, как конституционный государь, доказать, что такого рода услуги никогда не забываются, не только за себя, но и за меня он постарается.
— Государыня, вопрос о пользе отечества и государя для меня всегда был выше личных стремлений. А в ваших милостивых словах заключается обеспечение того, что отечество наше не будет игрушкой той — приходится признаваться — чисто детской фантазии, с которою государь Пётр Фёдорович полагает управлять обширной империей; той детской фантазии, которая в нём, уже женатом, совершеннолетнем, вызывала желание показывать язык духовенству, когда оно перед ним кадит. Теперь он мучит гвардию в то время, как готовится к войне... тоже, впрочем, как дитя, которое не может отстать от занимающей его воображение игрушки.
— С преосвященным Дмитрием я говорила много раз. Сегодня на половине великого князя он будет служить напутственный молебен по случаю моего отъезда в Петергоф; дайте ему почувствовать, что он имеет право причислять вас к числу своих.