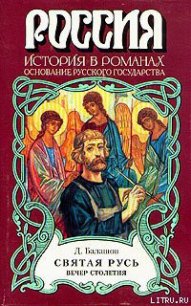Отречение - Балашов Дмитрий Михайлович (версия книг .TXT) 📗
— Любую болесть можно остановить! Да черная времени не дает! Кабы неделю, две, а то два-три дня — и конец! Бьемси, бьемси тута, а все толку нет! Уж Господней кары, видать, человечьим умением не отворотишь! — Он широко осенил себя крестным знамением, и Микула тут только узрел в углу невидную икону с ликом Николая-угодника. — По Галенову и Иппократову учению творим! — с оттенком гордости произнес Кузьма. — И остановили б, да крысы вот…
На недоуменный взгляд Микулы пояснил:
— Крысы! Кабы их истребить, дак и черная окончилась бы той поры.
— Крысы-то при чем?! — удивился Микула.
— Дак грызут снедное, ну и болесть переносят на себе! Все связано, все в тварном мире одно с другим съединено! — поучительно, с бледною усмешкой к простоте собеседника изрек Кузьма. — Без пчелы, без шмеля, смотри, нету и урожая! Птица певчая хранит сады от червя; всякое былие малое и то на потребу человеком. Всяк зверь для своей надобности служит. И скимен-лев, и хищный волк, и медведь, и инрог, что в жарких странах обитает… Богом создано! Превышним разумом! Стало, чего и не понимаем враз по невежеству своему, и то всяко полезно и надобно в мире сем.
Вышли снова на свет. У Микулы с непривычки даже голову закружило и слезы выжало из глаз.
— Ищем, чем черную остановить! — сказывал Кузьма, вздыхая, когда они шли назад через двор. — Мыслю, однако, не все возможно человеку, в ином положен предел жестокий, и тут бейся не бейся… А иного не измыслишь, кроме как — молитва и пост! Мнихов, поглянь, все же меньше мрет, нежели мирян.
Микула подымался вслед за Кузьмою по лестнице, все еще ощущая запахи адского варева, верно, приставшие к платью и волосам, так и не понимая до конца, был ли тот, черный, целителем из иной земли, колдуном ли, али самим нечистым, коего Кузьма, связав молитвою, обязал работати на христиан. С удовольствием принял предложение Кузьмы омыть еще раз руки, лицо и бороду. Только тогда мерзкий запах несколько отошел от него. В доме родительском тоже собирали травы и зелья варили, но такого он у родителя-батюшки не видывал никогда.
За столом были только свои, домашние. Кроме семейных, лишь дядин духовник да Кузьма.
Дядя вольно сидел, полуразвалясь на лавке, в расстегнутой полотняной чуге, открыв густо шитую шелками грудь рубахи белого тонкого полотна, небрежно вытирал пальцы о разложенный по краю стола рушник. О посыле в Суздаль речи не было. Разговор шел все о том же: о травах, стихиях, из коих составлены мир и человек, о причинах болезней, о том, что добрый врач «естеству служитель и в болезнех сподвижник» и что природе надобно помогать, а не перечить ей. Коснулись и того, почему отмечают третины, девятины и сороковины по покойнику, и Микула с удивлением узнал, что в дядином терему совсем не чтут «Диоптру», по каковой указанные дни объяснялись явлениями Христа ученикам своим в третий и девятый дни и вознесением его на сороковой день на небо.
— Яко семя, убо в утробу женскую вошедшее, — принялся объяснять Кузьма, — в третий день пременяется в кровь и живописуется сердце, в девятый же день сгустевается в плоть и составляется в уды членовы, в сороковой же в видение совершенно воображается, — он отложил вилку и поднял указующий перст: — Тако же и после смерти обратное творению ся совершает: в третий день изменяется человек, в девятый же раздрушается и сливается всяко сохраняему токмо сердцу, а в сороковой же и самое сердце раздрушается. И энергии истекают в те же дни и часы! Сего ради третины, девятины и сороковины творят умершим.
Микула оборотил недоуменный взор к духовнику, но тот, помавая головою и прожевывая кусок стерляди, подтвердил:
— Тако!
— А как же в «Диоптре»… — начал было Микула.
— Истекающие энергии! — прервав его на полуслове, вновь поднял палец Кузьма. — Те самые, о коих отец Палама бает! Пото и Христос являлся верным в указанные дни! А в сороковой день силу его, исходящу из ветхой плоти, стало возможно зрети учеником!
— А Фома Неверный? — решился все же возразить заинтересованный всерьез Микула.
— Энергиями, истекающими на нь, создана всякая плоть! — строго отверг Кузьма. — Зри окрест! Все земное, тварное тою же силою создано!
Дядя Тимофей только посмеивался, накладывая себе и придвигая племяннику новые куски севрюги.
— Ешь! Да слушай! Гляди, и сам поумнеешь, тово!
А Кузьма с духовником тем часом заспорили, что надобно есть в весну, лето и осень, и что подобает теперь, и не надобно ли уже отврещись от многая рыбы, поскольку в летнюю пору умножение черной желчи предстоит и надобно очищать утробу питием трав и воздержанием…
Тимофей Василич лишь подмигивал племяннику и накладывал себе в тарель еще и еще. Юный сын Тимофеев, Семен, сидел опрятно, в речи старших не лез, но слушал, видимо, в оба уха, и потому, захотев отрезать себе еще жирной рыбы, смутился и начал поглядывать то на отца, то на духовника с Кузьмою.
— Ешь, сын! — поощрил Семена отец. — Объядения избегай, а иное тебе пока не грозит.
— Как батька? — отнесся наконец насытившийся Тимофей к Микуле. — Покос-от не проворонят у ево?
— Сушь! — отмолвил Микула. — Трава худа.
— Я дак своим велел и вовсе верхних пожен не трогать, — отозвался Тимофей. — По кустам да по лощинам, по сыри, больше наберешь! Где лонись была крапива жигучая да мокредь, ныне травы добрые выстали. Земля-матушка
— она тоже свое знает паче нас с тобой!
Кузьма с духовником, позабывши уже и про снедь, перешли тем часом на кровопускания и спорили, когда надобно отворять кровь, и кому, и откуда. Тимофей махнул рукою, вставая из-за стола:
— Пошли, племяш! Всего не переслушаешь тута! — И уже когда проходили во внутренние горницы, на пороге изложни, оборотясь, строго вопросил: — Ехать-то готов?
— Готов! Когда? — живо отозвался Микула.
— Седни в ночь, — сказал Тимофей. Подумав, поправился: — До свету выехать надобно. У меня и ночуй. Холопам накажешь, не умедлили б с зарею!
ГЛАВА 34
К Суздалю подъезжали долгим поездом. Гонцы были посланы загодя, и князь, стесненный и московитами и собственным братом, порешил устроить Вельяминовым почетную встречу.
За пять поприщ от города московитов встречали избранные бояре, на подъезде к городу — дружина и бирючи. На княжеском дворе от ворот до терема были расстелены сукна и по обе стороны выстроены «дети боярские» в дорогих доспехах, с узорным оружием в руках. Начищенное железо сверкало и плавилось на солнце. Горожане и купцы, набежавшие на глядень, теснились по сторонам. Иван и Тимофей Вельяминовы, племянник с дядей, важно вышагивали, сойдя с коней, в ферязях цареградского аксамита, в шитых жемчугом сапогах, в отороченных соболем, невзирая на жару, шапках. Микула следовал сзади брата, тоже разряженный, с любопытством озирая княжой двор и собравшуюся суздальскую вятшую господу. Все явно в лучшем своем, иные, почитай, в единственном праздничном платье, все спесиво-чопорные, как и князь, что вышел на крыльцо и стоял прямой, сухопарый, высокий, задрав бороду, не то гордясь, не то гневая на удачливых соперников своих.
Москвичей встретили, разместили. Была торжественная служба в соборе. Мор в Суздале, собрав свою законную жатву, начал уже утихать, и потому глядельщики собирались толпами без особого опасу. Наконец провели в терема. Послам было представлено княжое семейство. И с этого мига Микула, дотоле внимательно разглядывавший лица, одежды, иконные лики в соборе, горожан, лавки, оружие, — умер, воскрес и не замечал уже больше ничего.
К гостям вышла княгиня Анна, супруга Дмитрия Константиныча, младшие сыновья князя и две дочери, одна еще почти девочка, Дуня, с распахнутым взором больших бирюзово-синих глаз, статная, чуть заметно курносая, обещающая стать писаною красавицей года через два, и старшая, Маша, потемнее сестры волосом и взором, с темно-синими строгими глазами, с продолговатым гордым лицом точеной, надменной, почти иконописной красоты, с непредставимо долгими ресницами, от которых на нежные щеки ложились тени, и казалось, когда она распахивала очи, взглядывая, подымался тревожный ветер в палате. Словом, Микула, хоть и был не робок, и собою хорош, и статен, и родом высок, и в Суздаль прибыл как победитель в стан побежденного супротивника, а оробел, истаял, истерял мгновением волю и власть, и когда она, облитая лиловым, в неправдоподобно огромных золотых парчовых цветах шелком, поворотилась и уплыла гордою лебедью, сердце Микулы рухнуло и разбилось в куски. Свет замглился, и стало — вынь да положь суздальскую княжну, иначе и жить не хочу!