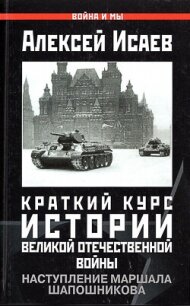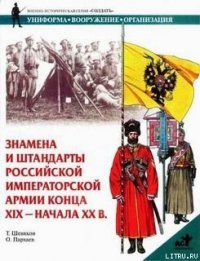Форт Далангез - Беспалова Татьяна Олеговна (книги регистрация онлайн TXT, FB2) 📗
С первого этажа на второй ведёт устланная потёртыми разноцветными коврами лестница. Я трогаю рукой шаткие, отполированные временем перила. На стенах, кроме хозяйских портретов и символа османов — пятиконечной звезды и полумесяца на красном фоне, — с изумлением вижу двуглавого имперского орла. Знамя старое, с обтрепавшимися краями, скорее всего, наследие предыдущей русско-турецкой кампании. Ну что ж, на этот раз мы взяли реванш.
Верхний этаж дома по местному обычаю делится на женскую и мужскую половины. Над нашими головами деревянные потолки с вычурной резьбой в староосманском стиле. Самая богатая и уютная из всех комнат предназначается для гостей. На стенах, полу, скамьях — повсюду мягкие ковры из ворсистой шерсти. На стенах кроме ковров и разнообразного холодного оружия в узорчатых ножнах вижу лыжи и всевозможных модификаций снегоступы. Как же без них? Мы ведь в Турецкой Сибири. Гостевая комната дополнительно обогревается жарко натопленной буржуйкой. На широком деревянном подоконнике чудо из чудес — медный, чеканный сверкающий самовар, именуемый в здешних местах "семевером". Рядом с ним на пылающей спиртовке — и когда же это Лебедев успел? — медный же заварной чайник. Пахнет дымком и пряными травами, добавляемыми по местному обыкновению в заварку. Лебедев хлопочет. Руководимые им казаки уже устанавливают мой походный рабочий стол между буржуйкой и окном. Стол Масловского — возле двери. В соседней комнате на мужской половине дома они установят мою койку. Штаб расположится на женской половине.
Женя Масловский, по обыкновению не отстающий от меня ни на шаг, со свойственным ему ироническим интересом рассматривает настенные украшения типичного турецкого дома. Особо его восхищение вызывают лыжи.
— Вот бы господина Ковшиха сюда, — раздумчиво говорит он. — Устроил бы эквилибристический спуск на лыжах с горы Паландокен.
Оба мы с грустью вздыхаем. От военной работы человек черствеет. С годами горечь утраты притупляется. Смерть на войне — явление частое, я бы даже сказал обыденное, но гибель Адама, его геройство…
— Всё-таки, Николай Николаевич, я заметил: нет ничего теплее русской избы… Как-то там наши на Юго-Западном фронте? — пытаясь разрядить обстановку, произносит Масловский.
— Там-то уж по-настоящему жарко, не сомневайся, Женя, — отвечаю я. — Давай распределимся так: этот стол мой, а вот этот тебе.
— От окна дует, Николай Николаевич.
— Из двери — тоже. Так что по отношению к сквозняку мы с тобой будем на равных…
Сбросив с плеч шинель, Женя отошёл к окну. Я прикоснулся к железному боку небольшой печурки. Чуть тёплая. Я предпочёл не раздеваться, а дождаться, пока Лебедев затопит по-настоящему и разберётся наконец с самоваром. Однако мой ординарец не спешил присоединяться к нам.
— Аллилуйя! Аллилуйя! Победа же, победа! — кричал он где-то совсем близко.
Его крики заглушали выстрелы — казаки салютовали кому-то.
— Большие потери… — задумчиво проговорил Жена, глядя в окно. — Закоченевшие трупы вдоль дорог. Много трупов. Штабеля. Наши и турки. Похоронные команды не справляются…
— Что с тобой, Женя? Устал?
Подойти бы к нему, заглянуть в лицо, но невозможно пересилить себя и отойди хоть на шаг от чуть тёплой печки. А полковник Масловский справится. Чай, не мальчик. Где же Лебедев? Где этот реалист-недоучка и доморощенный циник? А с улицы снова и голосом Лебедева: "Брат ты мой! Живо-о-ой!!! Аллилуйя!"
— Я к тому, что Лебедев немного того… — Масловский обернулся ко мне, пенсне блеснуло. — Насмотрелся ужасов, вот и несёт его по кочкам. Может, и отойдёт, как вы думаете, Николай Николаевич?
— Надо кого-то послать… совещание… к вечеру прибудет сам Николай Николаевич Романов. Зови Лебедева. Без него как без рук.
Лебедев явился на зов скоро, но по-прежнему сам не свой и с охапкой хвороста в руках. Я сразу заподозрил у него тиф. Этого ещё не хватало!
— Тебя лихорадит, братец? — спросил я осторожно. — Не тиф ли?
— Никак нет, ваше сиятельство! Ура! Ура! Ура!
— Не кричи. Чаю нам с коньяком и какой-нибудь еды… и… прекрати балаган!
— Какой же вам ещё еды? — изумление Лебедева показалось мне совершенно искренним.
Вот только глаза его мне не нравились — слишком блестящие. Такой блеск придаёт глазам тифозный жар.
— Сегодня вечером банкет по случаю награждения героев, а пока хоть каши нам принеси от общего котла, — проговорил Масловский.
— Там с жеребятиной, ваше высокопреосвященство…
— Там не сбрендил ли? — возмутился наконец Женя. — Начитанный дурак! Напиться так скоро ты не посмел бы, да и не было у тебя возможности. Так возьми себя в руки. Перед тобой твои командиры! Отвечать по уставу!
Хворост с грохотом посыпался на пол.
— Господам офицерам, может, и не понять, а только радость меня до самого дна пробрала. Узнал, где у меня низ, — проговорил Лебедев и заплакал. — Сажайте в гауптвахту, ежели не по уставу… что угодно… да только рад я, потому что встретил Аллилуйю. Вот тут, на площади. Он с виду турок-турком, но как ко мне кинулся! Как обрадовался! Он жив, жив, Николай Николаевич! Жив!!!
Тут уж и меня, как выразился Лебедев, "до дна". Кричу, себя не помня:
— Самовар! Коньяк! Кашу с жеребятиной! Галлиулу! Немедленно! Сюда! Исполнять!!!
Дверь тут же распахнулась, и Лебедева вынесло наружу, как выносит порывом сквозняка ненужную бумагу. Жду Галлиулу, волнуясь, как нашкодившая курсистка перед неизбежной взбучкой от классной дамы. Тот является в сопровождении довольного Лебедева. Галлиулу усаживают в кресло, подают чай, но тот настолько смущён, что, отказавшись от чая, самочинно пересаживается на табурет. Сидит на краешке, сомкнув колени. Стесняется, герой. Мы же с Масловским устраиваем ему форменный допрос. Как подал бумаги? Что видел? Как выжил? Герой порывается встать во фрунт. Хлипкий табуретец выскальзывает из-под его тощего седалища и с грохотом валится на пол.
— Сидеть! Долой субординацию! — рычу я, смущаясь.
И есть от чего!
При моей-то боевой закалке, высоком звании и должности, при полном отсутствии в характере какой-либо сентиментальности чувствовать на глазах предательские слёзы — это вам не чаю напиться с фарфорового блюдечка. Подчинённые мои при виде этой мокроты отворачивают лица. И у этих слезы оказались совсем рядом. А то как же? При таких-то потерях, когда некоторые полки выкосило почти целиком, застать в живых того, кто, казалось бы, выжить не мог никак. Увидеть в здравии героя, исполнившего свой воинский долг до конца, это ли не трогательно? Это ли не счастье при наших-то обстоятельствах?
Откуда ни возьмись сбегаются штабные, обступают счастливого Галлиулу, ослепляют блеском регалий, орденских планок и оружия. А он-то, герой наш, в какую-то засаленную дребедень одет. Лапсердак штопанный. Обувь дырявая. Ермолка на голове вытерта совсем. Да и холодно в такой-то ермолке. Чай, Турецкая Сибирь не Трабзон и не Гагры. Как уши не отморозил, непонятно. На осунувшемся лице глаза, как кофейные блюдца, и таращатся на огромную плошку с кашей и стакан с дымящимся чаем в серебряном подстаканнике. Молодец Лебедев. Угадал моё желание. Не погнушался подать простому солдату генеральский прибор, а Гал-лиула, с застывшими от смущения глазами попеременно то отнекивался, то оправдывался невесть в чём:
— Я сыт, ваше высокопревосходительство. Не голодал. Кормили меня хорошо. Но я не предал. Клянусь Аллахом всемогущим, не предал! В мечеть ходил вместе со всеми. Соблюдал правила. Они поверили вашим бумагам. Аллах всемогущий ведает, как поверили!
В глотке у него пересыхает. Он кашляет, краснеет. Масловский суёт ему чай, добавив в него тайком знатную дозу коньяка. Галлиула хлебает из стакана, смущаясь видом генеральского подстаканника. Наконец, взгляд его теплеет. Лицо расслабляется. Коньяк помогает преодолеть смущение, и Галлиула говорит. Вот его рассказ.
Меня пленила кавалерийская часть — десять всадников с шашками и ружьями на красивых и злых конях. Теперь я думаю, что то были разведчики, но тогда страшно перепугался и думал только о том, как бы не предать. Всё посматривал на их длинные кинжалы. Что стану делать, если ими резать меня начнут? Бумаги, данные его высокопревосходительством, отобрали сразу. Пытались читать, но без толмача разве такое прочтёшь? Один из всадников ускакал куда-то вместе с бумагами. А потом один из оставшихся всадников посадил меня позади своего седла, и мы двинулись совсем в другую сторону, не туда, куда ускакали бумаги его высокопревосходительства. Так меня доставили на бивуак в небольшое селение, где посадили в какой-то подвал. Меня недолго допрашивали. Не били, но двое суток продержали без пищи на одной только воде. В подвале я страшно мёрз. Холод заставил меня перестать бояться побоев. Наоборот, я мечтал о том, чтобы меня избили, лишь бы перестать мёрзнуть. Через два дня мне принесли огромный ломоть хорошо прожаренного и обильно приправленного специями мяса. За запахом жареного лука и специй я всё же признал свинину. Есть не стал. Вскоре мясо остыло и стало покрываться ледяной коркой. Меня трясло от холода. Брюхо свело судорогой, но к свинине я не притронулся. На четвёртый день пришёл старый турок. Цокая языком и одобрительно покачивая головой, он вытащил меня из подвала. Затем меня привели в хорошо натопленную комнату. Старуха, жена хозяина, принесла в ковше подогретого вина. Мне предложили выпить его, я отказался, хоть и замёрз совсем. Меня всё ещё трясло, но я предпочёл согретому вину тёплую каменку. Тогда старушка предложила мне лепёшек с сыром. Так я впервые за неделю наелся досыта, да и заснул мёртвым сном. Наутро старуха — турок, её муж, больше не появлялся — разбудила меня и снова дала подобающей мусульманину еды. Наевшись, я предложил ей помощь по дому: набрать хвороста, ходить за скотиной, носить воду — я многое могу, мне многое по силам. "А ты не убежишь?" — строго спросила старуха. На это я ей ответил, дескать, в русскую армию возвращаться не хочу, а хочу остаться среди своих братьев-мусульман. Ещё рассказал ей, что в русской армии каждому батальону полагается православный священник, который служит молебны и отправляет прочие церковные требы. Павших и умерших в лазаретах хоронят по православному обряду. Для мусульман ничего подобного не предусмотрено. Также сказал я хозяйке, что слышал от своих братьев-мусульман, дескать, во всей Закавказской армии нет ни одного муллы. Упав на колени, просил я свою старую хозяйку оставить меня при себе. Хозяйка мне поверила, но при себе не оставила, а отдала своему старшему сыну — большому воинскому начальнику Атакару Касапаглу.