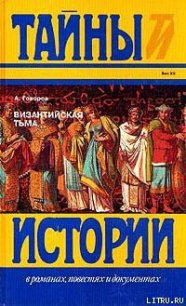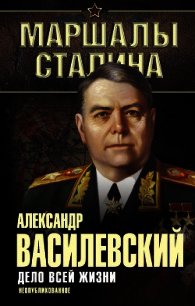Последние Каролинги - Говоров Александр Алексеевич (версия книг txt) 📗
Первая же книга обрушилась на пол, подняв густой столб пыли. Азарика открыла крышку и прочла: "TAKTIKON НРАK… На картине был изображен пузатый корабль. Воины в пышных шлемах направляли на врагов разинутые пасти чудищ, из которых лился огонь.
Сиагрий никак не мог понять, за что он внезапно заработал поцелуй в щеку и полденария в ладонь. Схватив тяжеленный фолиант, Азарика понеслась по залам, перепрыгивая через спящих беженцев.
В Зале караулов при тихом свете лампад Эд, с ним Гоццелин и командиры слушали доклад о том, что из закромов выбран последний лот муки.
— Люди умирают на улицах… — закачалась рогатая тень митры Гоццелина. — Больше всего младенцев жаль… Не успеваем отпевать!
— Значит, что же? — Эд сдвинул брови. — Капитуляция?
Вассальное ополчение, приведенное Эдом, влило свежую силу в оборону Города. Но лишь в распаленной фантазии парижан оно было огромным… Где-то в болотах Баварии блуждало усланное туда парижское регулярное войско. Феодалы в междоусобной распре двигали целые полки. А здесь Париж один на один противостоял смертельному врагу, и неоткуда было ждать протянутой руки.
Впрочем, один раз рука была протянута. Сквозь вражеские посты пробрался голодный монах, доставил от Фулька только что сочиненную молитву: «De furore normannorum libera nos, domine!» — «От ужаса норманнов избави нас, боже!» — Сыны мои, — сказал Гоццелин, и все повернули к нему головы. — Боюсь, как бы мне вскоре не дезертировать от вас навек… Это, может быть, самая легкая доля — оставить вас, молодых, пожинать плевелы, которые насеяли мы…
Он перевел дух, и серафимы подали ему воды с тмином.
— Чувствую на себе тяжкий груз совести, ибо ведь это я в начале осады побуждал вас и настаивал сопротивляться до конца… Но теперь! Мне много лет, и какие только страсти я не повидал на своем веку! Но не в силах смотреть я в глаза детей, умирающих с мольбой о кусочке хлебца… Сыны мои! Быть может, окаянный Сигурд согласится обещать им жизнь? Ну что ж, что цепи рабства. Ведь и спаситель был в оковах…
— Старик! — прервал его Эд с горьким упреком. — Послушай! Я прожил в три раза менее тебя, но пережил достаточно… И я буду кричать тебе и им, и всем буду колотить в уши, как звон набата, — пусть дети франков лучше умрут, чем станут жить у чужеземцев в неволе!
Лихие наездники, кряжистые рубаки, надменные сеньоры молча смотрели на своего старенького пастыря, украшенного нелепым венцом и сумкой для сластей на груди — давно уж без единой крохи.
— Ведь я ж не для себя… — поник головой Гоццелин. — Но, может быть, ты прав, прости мою старческую слабость. Ты сумел прорваться сюда, теперь сумей вырваться отсюда. Поезжай в Лаон, кричи, вопи, будь там набатом, как ты говоришь… Когда избирали Карла Третьего, главнейшим доводом было то, что три великие страны, объединясь под одной короной, сообща отразят наконец изнуряющего врага.
Вбежав с фолиантом в обнимку, Азарика еле сдержалась, чтобы не крикнуть при всех: «Нашла!» Пришлось ждать, пока все разойдутся. Когда серафимы увели Гоццелина, она торжествующе показала Эду рисунок корабля с пламенем, и он согласно кивнул — да, это и есть греческий огонь!
Всю ночь, обложившись глоссариями, она при свете трескучих лучин переводила Тактикон. А Эд распорядился, чтобы часовые возле Сторожевой башни обвязали сапоги соломой. Он гордился умницей оруженосцем — сам-то он еле мог подписать свое графское имя, хотя и не любил показывать это.
Утром Азарика, мигая воспаленными веками, доложила: нужна селитра, сера, нужен скипидар и горное масло. Вызванные хранители подтвердили — все это найдется на складах.
— А вот тебе и помощник. — Эд подвел к Азарике здоровенного детину во фламандском шишаке. Ба! Это был старый знакомый — Тьерри. Длинное его носатое лицо с усиками щеточкой и выпяченной губой вызвало в Азарике прежнюю неприязнь. Она не знала, как дать понять об этом Эду. А Эд внушительно сказал:
— Он принес мне вассальную присягу. Это закон покрепче божия.
— Ну-с, Красавчик, — сказала скрепя сердце Азарика, — не боишься ручки измарать?
Тьерри приложил ладонь к сердцу, даже поклонился.
А попачкаться им пришлось. В окруженных караулом термах дворца они, вымазанные дегтем, со слипшимися волосами, сливали и перемешивали в разных пропорциях скверно пахнущие составы и жидкости. Хитрый грек, составитель Тактикона, указал преднамеренно неверные рецепты, и жидкость то не горела, а лишь дымила, то гасла от воды, то, наоборот, вспыхнув синим пламенем, исчезала без остатка. Сиагрий меланхолично предсказывал, что они спалят дворец.
Было досадно до слез. Азарика стала прятаться от Эда, чтобы не видеть немого вопроса в его глазах. А парижане целый день толклись на стенах, наблюдая, как Сигурд готовится к решительному штурму.
Азарика разнервничалась и несколько раз накричала на Тьерри за его нерасторопность. И Красавчик решил по-своему к ней подластиться, как подсказывала ему память и его грубый инстинкт.
— Ах ты моя курочка! — пристал он однажды с глупой манерой обниматься, которая и приносила ему успех среди служанок.
Азарике было досадно, и ударить его она не могла, руки были заняты: как раз после бесчисленных проб получался нужный состав.
— Отстань! — оттолкнула она его.
— Но почему же? — ухмыльнулся Тьерри. — Не все же тебе в ведьмах ходить. Граф тебя любит, он даст тебе роскошное приданое.
— Подержи лучше эту трубку, пустомеля! — в отчаянии крикнула Азарика.
Она жалела о Заячьей Губе с ее мехами и сосудами — вот с кем бы приготовлять состав!
Наконец они продемонстрировали опыты Эду и Гоццелину. Наполнив водой бассейн, в трубе которого она когда-то спасалась от аббата, Азарика пустила жидкий огонь, и загасить его было нельзя.
— Подумать только! — поразился архиепископ. — Тебе, Озрик, непременно надо вступить в духовное сословие. Только там ты найдешь книги, помощников, уединение для мыслей. Кстати, в монастыре святого Германа, где наш племянник Авель совершает свои подвиги, приор, мой ровесник, давно просится па покой.
— Решено! — сказал Эд. — Быть Озрику приором святого Германа.
Но когда все вышли, она упрекнула его, вытирая паклей пальцы:
— Избавиться от меня хочешь?
— Помилуй бог! — засмеялся Эд. — Но ведь меня, скажем, могут убить. Что станется с тобой?
— Я тоже умру, — сказала она, глядя в его потеплевшие глаза.
Через две недели норманны на приготовленном понтоне соорудили высоченную бревенчатую вышку. Только ребенок мог не понять, что вышка эта предназначается для того, чтобы, причалив к прибрежной стене Острова Франков, перекинуться через нее и высадить десант. Теперь уж все население города готовилось к последнему бою, монахи вышли на стены исповедовать и причащать бойцов.
И тут покинул их старый Гоццелин. Шальная стрела на излете, когда прелат стоял на верхней площадке, перебила ему ключицу.
— Вот и все, — вздохнул старик, опускаясь на руки своих серафимов. — Благодарю тебя, боже, что дал мне умереть бойцом!
Рана его сама по себе была пустяковой. Но немощному старцу, изможденному голодовкой, которую он упорно переносил наравне со всеми, пришел конец.
— Эда, Эда скорей! — молил он, чувствуя, как быстро жизнь отлетает. — Я не успел ему сказать… Я должен ему сказать… Господи, зачем я медлил, колебался…
Граф, который был занят в другой части острова, прибыл уже, чтобы поднять на плечах его сухонькое тело и положить навек в крипту собора. А на рассвете начался штурм.
Чудовищная вышка двинулась по воде от мыса и к полудню достигла острова как раз напротив дворца и Сторожевой башни. Усатые норманнские рожи смотрели оттуда, как из-под облаков. Дракары, сопровождавшие понтон, изрыгнули поток воинов, которые, словно муравьи, полезли по внутренним лестницам вышки. Лучники старались держать в небе тучу стрел.
Бревенчатая громада накренилась и, подобно гигантской птице, клювом перекинулась через стену. По ее переходам устремились ревущие от нетерпения даны. Враг был всюду — и йод стенами, и над стенами, а теперь уж и за стенами.