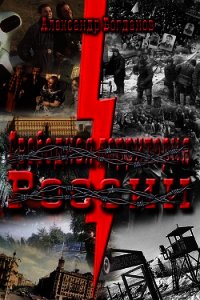Территория бога. Пролом - Асланьян Юрий Иванович (прочитать книгу .txt) 📗
Утром, собираясь к месту встречи с вооруженными архангелами, Василий строго наказал жене:
— Гитару не трогай. Вернусь — перетяну струну сам.
Наказал, не веря ни одному своему слову. Поцеловал — и пошел к устью Малой Мойвы.
Он шел и не думал, что жена мужа ослушается — что-то нашло на Светлану. Она перетянула струну, настроила гитару. Она начала записывать на листок какие-то слова, подбирать аккорды. Смотрела в окно, потом снова записывала и подбирала. Она видела Василия, идущего по тропе вдоль таежной речки, сопровождала его взглядом со скоростью ангела-хранителя, летящего за плечами мужа.
Гаевская представляла себе: он возвращается, садится напротив, пьет чай, а она поет ему свой романс, первый в жизни. Представляла — и не видела блаженной, наркотической улыбки на своем темном, сухом, осунувшемся лице.
Светлана дождалась — муж вернулся.
День был хмурый, моросил невидимый и непрозрачный дождь — обычный августовский день Северного Урала. Василий шел к устью Малой Мойвы и с улыбкой вспоминал, что во время своего июньского, предпоследнего захода на кордон директор и начальник охраны обнаружили там ружье двенадцатого калибра, вынесенное водой на песок. Василий отмочил оружие в солярке и отчистил заводской номер на замке. А до того еще Югринов говорил ему: четыре года назад там перевернулась заповедниковская «чалдонка» и затонуло ружье. Он запросил по рации контору — номер тот. Зашедший уже в июле Агафонов со смехом рассказывал, что Идрисов предложил ему тогда составить протокол о том, что преследуемый директором браконьер бросил ружье и скрылся. Начальник охраны не согласился, указав Идрисову на состояние ружья, пролежавшего в воде четыре года. Интересно, сколько он таких подвигов себе приписал? Имитатор. А в России было время, когда не любили искусственные алмазы, стразы и другие разного рода подделки, было время. Позднее я узнал, что именно для этого ружья Идрисов нес чехол.
Зеленин пришел на место своего преступления раньше, чем прилетел вертолет. Стоял, смотрел в мокрое небо, не чувствуя ни вины, ни страха. Позднее смог определить свое тогдашнее состояние безысходным и божественным словом: обреченность. Пустота, полное отсутствие какой-либо опоры — и неумолимая, мощная гравитация черной дыры, уносящей тело и душу в неведомую бездну. И там, на самом дне этой бездны, он разглядел крохотную точку, которая становилась все больше и больше, в которую он падал, как приговоренный, — это из-за Тулымского хребта появился обещанный вишерским эфиром вертолет. Машина низко зашла над Большой Мойвой, раздвинула воздух и мокрые травы и опустилась лапами на галечный нанос в устье Малой.
Зеленин не двигался со своего места — стоял в накинутой на плечи армейской плащ-палатке. В руках он держал топор и лопату.
Позднее он подсчитал, что архангелов было восемь — только тех, которые шли к нему в касках, бронежилетах, с автоматами Калашникова и даже со снайперской винтовкой. Они двигались по самому короткому маршруту, как отряд могильщиков, и Василий протянул первому из подбежавших топор и лопату. Тот схватил инструмент, а остальные начали заламывать Зеленину руки за спину, обшаривать карманы в поисках гранаты или базуки, стаскивать рюкзак. Что делать, Василий не дергался — он предвидел все это до мелочей, до первых ментовских слов: «Тебя назвал Агафонов».
Была такая смешная мысль: брать будут не в подъезде, не в сельском доме, а в тайге, где он был хозяином, который мог бы принять гостей по высшему разряду — устроить им небольшую чеченскую бойню.
Через десять дней, находясь в красновишерском КПЗ, Василий узнал, что группа захвата, которую специально привезли из Перми, собиралась его отстрелять, невзирая на то, окажет он сопротивление или нет. Вероятно, героев России остановило большое количество свидетелей — трудно было бы убрать всех. Потом они говорили Василию: «Ты правильно сделал, что прикончил мразь, но зачем свидетеля оставил?»
А я вспомнил кусок записи с диктофонной ленты: «Дело не в том, что я пожалел Агафонова. Потому что о жалости речь вообще не идет. Я просто не собирался его убивать — понимаете? Мысли такой не было. Я шел убивать Идрисова. О какой жалости вы спрашиваете меня?»
Этот уникальный оперский рейс оплатил департамент заповедных территорий Государственного комитета по экологии России. Заповедное дело стало уголовным…
Светлана дождалась — Василий вернулся: он спустился с неба с «браслетами» на запястьях, в окружении дружелюбных автоматных стволов. Взгляды Светланы и Василия встретились — над космической бездной…
Зеленин немного позапирался, чтоб не нарушать правила светской игры. С вооруженными небожителями прилетели две женщины — прокурор и следователь прокуратуры, бывший заместитель директора заповедника Малинин, исполняющий на земле обязанности Идрисова, и даже начальник департамента Степанов, примчавшийся на Мойву из Москвы. Не каждый день казахов убивают на Северном Урале.
Гаевская подошла к Степанову — мужчине в расцвете лет, кандидату наук, интеллигентному чиновнику, воспитанному, как спаниель, окончивший Гарвард. Когда бы он, членистоногий, смог повидать Россию, если бы совсем не расстреливали директоров?
— Прилетели, Дмитрий Петрович? — кивнула она головой, приветствуя прямого начальника. — А где же вы были, когда сотрудников заповедника вывозили отсюда трупами и инвалидами?
— Я не знал, не знал, — быстро и негромко заговорил Степанов, — честное слово, не знал… Господи, как я сожалею!
В лицо Василия в это время весело смотрел габаритный убийца из группы захвата. Белобрысый губошлеп из Губчека.
— Да ты понимаешь, что сделал? Вся Пермь на ушах стоит! Уже который день!
— На соленых? — без улыбки поинтересовался Зеленин.
— Что — на соленых? — ответил озадаченный оперуполномоченный.
— Пермяки солены уши, — напомнил ему Зеленин поговорку.
— А-а! — протянул мент. — Скоро ты сам станешь соленым — от Соликамских слез. На зоне там не был?
Зеленин был искренне изумлен. Вся Пермь? На ушах? Из-за этого гада? Когда тысячи ежедневно умирают — в камерах, в заброшенных подвалах, на городских свалках? Когда дети живут, спят, голодают в туннелях теплотрасс? Бесконечно терпение Господа нашего…
Василий смотрел на свою Светлану в иллюминатор медленно поднимающегося вертолета. Продолжал накрапывать настырный заповедный дождичек. Жена одиноко стояла в траве, завернувшись в кусок полиэтилена, и заплаканное, родное ее лицо едва просматривалось. А борт неумолимо уходил в сторону, оставляя внизу, на сырой земле, белую, мерцающую точку, через несколько секунд исчезнувшую в мареве неумолимого прошлого.
Гаевская осталась одна — в тайге, во всем этом мокром и холодном мире.
А вертолет, прижатый к земле августовским небом, летел ниже Тулымского хребта и параллельно ему, потом — Чувальскому. Совсем близко к борту проходили, будто бока гигантских рыб, серые, чешуйчатые, туманные гольцы Уральских гор. Василий смотрел по ту сторону толстого стекла с блаженной улыбкой сумасшедшего, навеки прощаясь с этой божьей благодатью. На душе его было светло от алкогольного чувства — долгожданной обреченности. Он прощался с тайгой, свободой, жизнью — он понимал, что не сможет существовать в стаде, загоне, зоне. Не сможет — в тюрьме или на воле, без разницы — без узды. Или с ней. «В стаде у меня верх берут скорби…»
Как он узнал от сокамерников, обычно менты делают так: сначала бьют ногами по голове и только потом спрашивают, за что тебя взяли. Пути твои, Господи… Василий Зеленин, убийца, никому не известный инспектор заповедника, неожиданно стал национальным героем. На взлетной полосе бывшего вишерского аэропорта, окруженного желтыми песками, группа захвата окружила того, кого собиралась отстрелять. Чтобы сфотографироваться на память.
Похоже на встречу кумира с восторженной публикой. Василию заботливо подбирали сокамерников, чтоб убийца не испытывал психического дискомфорта, интересовались здоровьем, а женщины из прокуратуры искренно пытались направить уголовное дело по выгодному для подследственного руслу. «Этот Идрисов еще тот жлоб-то был, — обронила следователь прокуратуры Кулагина, — судился с уволенными за каждую чашку-ложку». А прокурор, женщина простая и даже доброжелательная, советовала Василию свести все к убийству из ревности. Зеленин испытал чувство благодарности. Испытал молча. Он был уверен, что любой приговор для него — смертельный. Жизнь казалась красивой, а была жесткой, как «браслеты».