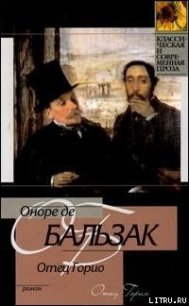Голгофа - Гомин Лесь (бесплатные версии книг TXT) 📗
Монах выскакивал часто. Но в конце концов успокоился, даже четки свои оставил. Он и не спал, а просто отлеживался во время своего долгого путешествия. Уже в вагоне привыкли к нему, никто не обращал на него внимания, словно его и не было. Но вот поезд остановился. Небольшая станция, освещенная несколькими бледными огнями керосиновых ламп, отразилась в окне вагона расплывчатыми контурами. Снаружи донесся какой-то шум. Пассажиры бросились к окнам, прислушиваясь к крикам. Монах тоже поднялся с места. В вагон долетали только отдельные слова, разобрать их было невозможно, потому что язык был какой-то странный, непонятный.
— Видать, восточные «человеки» куда-то едут — бросил один из пассажиров.
Другой возразил:
— Нет, это «тринадцатая вера» собралась. Молдаване. Я их хорошо знаю. Четыре года вино бессарабское пил. Доброе, стервецы, вино умеют делать, и винограда много у них…
Какой-то скучающий пассажир, радуясь случаю завести разговор с соседями по вагону, готов был подробно рассказать о молдаванах, но его речь прервал монах. Он напряженно слушал и как-то сразу переменился в лице — то краснел, то бледнел, торопливо собирая свои вещи. Монах свернул небольшой узелок, соскочил с полки и выскользнул из вагона. Он опрометью побежал, перепрыгивая через рельсы, к толпе, галдевшей на перроне: Прибежал и стал позади всех. Поезд свистнул и умчался дальше, а монах остался на перроне.
Когда поезд отошел, монах облегченно вздохнул. В вагоне он боялся, что за ним кто-то следит, а сейчас стал самим собой, бросил четки и узелок и присоединился к толпе, выкрикивая те же слова, что она. Это был один из отрядов паломников из Липецкого. Смиренный монах-пассажир скорого поезда — сразу узнал некоторых из толпы, знал и то, куда они едут. Поэтому-то он еще ниже надвинул на глаза шапку, закутался в рясу до самого носа и принялся кричать и суетиться, подобно всем. Это был отряд матери Софии, ехавший в Муромск, и именно на этой станции жандармы хотели поставить поезд на карантин.
— Эй, не слушайте его! Не слушайте! Это слуга сатаны, он хочет нас задержать, чтобы мы не видели пэринцела Иннокентия! — кричал неистово монах, прорываясь к жандарму.
Жандарм в конце концов плюнул и махнул рукой. Он что-то крикнул начальнику станции, и тот подозвал одного из толпы:
— Вам разрешено ехать. Идите в вагоны.
Бросились к вагонам, но смиренный монах забежал вперед и, подняв руки, закричал:
— Братья и сестры! Стойте! Не садитесь в вагоны, они хотят обмануть нас. Они посадят нас в вагоны, закроют и тогда сделают, что захотят. Стойте, не верьте этому обману.
Он, очевидно, угадал, потому что начальник станции зло заскрипел зубами и выругался, увидев, как все остановились возле вагонов. Он доложил жандарму, что маневр не удался, толпа готовится, очевидно, к решительным действиям, вооружается камнями, палками. Только тогда начальство решило отправить богомольцев. Вагоны подцепил паровоз и потащил к составу. А когда вагоны присоединили к поезду и подали паровоз, паломники сели в вагоны. Да и то следили, все ли в порядке. Инициатива была на стороне смиренного инока, он последним и сел в вагон, почти на ходу, и забился в самый дальний угол. Там и уснул. Спал долго, не просыпаясь. Но это была видимость. В действительности монах не спал, он долго сидел, обхватив голову руками, потом лег и погрузился в свои думы.
Наконец дорога кончилась. Отряд прибыл на станцию и, высадившись из вагонов, готовился к пешему походу в обитель. Достали хоругви, иконы и построились в колонны. Но долго идти не могли. Уставшие люди жаждали отдыха, а потому, как только вошли в первое село, стали врываться в дома и валиться спать.
Утром, когда мать София созывала паломников, в село прибыли становой и жандарм. Они приказали не ходить дальше. Но нечаянно проговорились, что прибыли еще два отряда богомольцев, и тем испортили все дело. Поднялся шум, паломники побежали на холм, за село, встречать своих. Вскоре на холме появилась громадная толпа, которая лавиной ринулась в село. Отряды объединились; целовались, расспрашивали, кто остался жив, кто куда девался.
Руководители похода тем временем посовещались и приказали собираться.
— Пэринцел Иннокентий, — кричал Бостанику, — уже недалеко. Уже конец нашему пути, завтра мы предстанем пред его светлые очи. Он принесет нам долгожданную радость.
Собрались быстро. Забыты болезни, раны, смертельная усталость и голод. Толпа снова готова, снова поднимает голову, готовая идти в неизвестное, — лишь бы к нему, источнику света, здоровья, к нему, кто спасет на том свете от страшных мук, избавит от тягостной жизни на этом свете. Поход продолжался. Двигались медленно, но упорно. Черный, страшный стоногий и стоголовый уж потянулся снегами вдоль Онежского озера к Муромской обители.
Смиренный монах был тоже здесь. Он остался где-то в хвосте колонны, шел прихрамывая и бормотал молитвы. Иногда поднимал голову, шептал что-то и продолжал идти. Иногда спрашивал соседа:
— Ну, и долго шли?
Вопрос не мог вызвать подозрений, потому что только здесь объединились все три потока, и каждый, кого он спрашивал, мог быть из другой группы.
— Долго, брат. Ох, долго и трудно было идти. Но только там, где находится отец Иннокентий, мы уж отдохнем. Он даст нам возможность отдохнуть. Мы заберем его назад в Липецкое.
— В Липецкое? Заберем? Как же мы его заберем, если сам императ посадил его в Муромский монастырь? Да нас оттуда прогонят жандармы.
Сосед с воодушевлением отвечал:
— Наша вера сильнее императа. Все равно и императу не усидеть на своем высоком троне. Пэринцел Иннокентий его сбросит и будет сам императом императов, будет сам царем царей, и тогда мы все при нем будем, как дети подле отца.
Смиренному монаху ясна уже цель. Ясна и, очевидно, по душе, потому что он усмехается себе в бороду и тихо повторяет эти слова.
— Мы освободим пэринцела Иннокентия, освободим, хоть бы пришлось идти к самому императу.
Смиренный монах бодрее шагает по мерзлой дороге, ни на шаг не отстает от других, да еще и поддерживает отстающих.
Соседи смотрят на него с благодарностью. Преданный брат идет с ними, глубоко верит. Жмутся к нему те, кто в пути пал духом, жмутся, как всегда жмутся беспомощные к более сильному, жмутся, чтобы черпать от этой силы бодрость. И смиренный монах понимает это, ибо охотно делится своим упорством с каждым, кто к нему присоединяется. И уже на полпути вокруг него объединилась большая группа единомышленников.
Толпа двигалась быстро. Ветер дул в спину, не так донимал холодом, а близость цели поднимала дух.
Наконец показались колокольни Муромской обители, толпа взревела и, словно ураган, ринулась вперед. Миновали какие-то здания, сараи и летели, летели в темени ночи. На первый стук в ворота никто не ответил. Тогда толпа на разных языках, но с одним чувством взревела бестолковую, но трагическую песнь «Достойно есть…»
Трагическую, ибо в ней это невыразимо страшное, изувеченное дорогой скопище изливало всю свою боль, все муки сотен и тысяч долгих верст, устланных трупами. Это были муки загнанной в тупик морального отчаяния толпы, которая шла на смерть, лишь бы увидеть того, кто хоть там, по ту сторону мира, обещал избавить от ненавистного и тяжкого ярма.
Песня вмиг разбудила обитель. Игумен велел покрепче запереть ворота. Но Иннокентий его опередил. Он выскочил из кельи почти в одном белье и побежал открывать ворота.
— Брат Семеон, где ты? Где ты, мать моя?
— Мы здесь! Мы здесь! Осанна тебе! Осанна!
Буря плача. Море слез. И тех слез, того плача и радости той ничем не измерить. Не описать того отчаяния. Толпа гудела, как страшный вулкан, который только что прорвал толстую кору земли и несет в своей лавине громадные камни.
Иннокентий стоял, закинув голову, гордый своей победой, протянув руки для благословения.
Как только прошла первая волна упоения, руководители похода велели размещаться по кельям. А утром наметили места, где надо рыть пещеры, как и в Липецком, чтобы осесть здесь, пока можно будет выйти с Иннокентием. Грандиозный план демонстративного выхода Иннокентия из Муромского монастыря неожиданно провалился. Он не использовал первой минуты, растерялся при встрече. Да и сама масса была не в состоянии сделать что-либо, ибо пришла измученная, утомленная, истощенная. И только много лет спустя Иннокентий понял, что все получилось к лучшему. Он ничего не выиграл бы, а только проиграл, если бы бросил толпу на разрушение Муромского монастыря. Но в ту ночь он до полусмерти избил Горпину, подскочившую под благословение с братом Семеоном. Он тогда шагал по келье и кусал пальцы до крови, что так неудачно, так скромно подошел народ, не предупредив о своем прибытии.