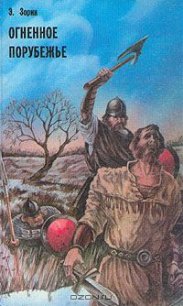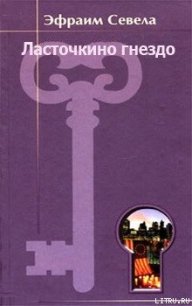Большое гнездо - Зорин Эдуард Павлович (читать полностью бесплатно хорошие книги TXT) 📗
— Всяк в своих мыслях волен, — сказал он охрипшим голосом. — А над всеми един бог. Забудем наш разговор, княгиня.
— Забудем, ежели сам на старое не повернешь, — согласилась Мария.
С того дня все реже стал хаживать к ней Лука. «Еще накличет Всеволода на мою голову, — думал он о ней с неприязнью. — Хоть и знает он меня за недруга, а коварства не простит...»
С Лукою еще в прошлом году вышла у Всеволода промашка. По смерти Леона думал он поставить верного человека на епископское место. Вот и наговаривали ему: зови-де из святого Спаса на Берестове игумена Луку. Нравом он кроток и духом смирен... Послушался Всеволод советчиков, да после с Лукой намучился. И верно, кроток он был — оттого и повисли на нем ростовские бояре. А когда подновлял Лука сгоревший во время великого пожара храм Успения божьей матери во Владимире, то кощунствовал неслыханно: велел он сбивать с собора резные камни и, распаляясь гневом, сажал отказавшихся подчиниться мастеров в поруб. Поглумились ростовские бояре через Луку над памятью ненавистного им Андрея Боголюбского, а еще подстрекали его не слушаться князя, не ехать во Владимир. Боялись они, что не распространится на него из Ростова их власть, а Всеволод будет рядом.
Во всем преуспели бояре: крепко повязали по рукам и ногам смиренного Луку. Через него думали завладеть Всеволодовыми сынами. Они же его и на разговор с Марией благословили.
Да, вишь ли, нескладной получилась беседа...
О ту самую пору, ко времени, и Словиша его поостерег:
— Хорош цветок, да остер шипок, отче. Утомил ты княгиню, а у нее дите под сердцем.
Однажды сказанного Луке не повторять. Был он умен и смекалист. Но от замысленного отречься не захотел. Прислал в терем к Марии боярыню Попрядуху.
Долго обхаживала Попрядуха княгиню. У боярыни сказок — ворохами не перетаскать. Сложив полные руки на отвислой груди, говорила она глухим речитативом, а между сказками странными присказками потчевала Марию.
— Зря обидела ты Луку, — говорила она ей. — У князя заботы князевы, а епископ печется о душе.
Большие, навыкате, глаза ее глядели скорбно, как у богоматери. Смахивая пухлым пальчиком с готовностью выкатившуюся слезу, шмыгала она носом, скулила жалостно:
— Живем, будто в медвежьем углу, с кваса на воду перебиваемся. Обветшал Ростов, оскудела былая вера. И тако скажу тебе по-бабьи: в прежние-то времена степенности было поболе, обходительнее был мужик. А нынче он на все горазд. Ему что поп, что дядька. Язычники, слышь-ко, снова объявились в лесах, пляски бесовские творят на требищах, над князем насмехаются, в иконы плюют, грозятся пустить боярам под охлупы красного петуха...
Сказанные полушепотом, слова боярыни западали в душу Марии. Нет, неспроста беспокоился Всеволод, не хотел отпускать ее в Ростов. Неспроста наставлял Словишу зорко приглядывать за княгиней.
И сейчас будто долетали до него за многие версты и разговоры ее с Лукой, и ночные думы, когда лежала она, растревоженная, на широкой постели, глядела, как проплывает по оконцу ущербный месяц, увитый черными облаками, и вспоминала с щемящей тоской свою уютную ложницу в княжеском тереме над просторной Клязьмой, — на охоте ли, на боярском ли совете нет-нет да и кольнет его в сердце нестерпимая боль. А тут, что ни ночь, стала ему сниться Мария — все грустная являлась во сне, все звала куда-то печальным и растерянным взглядом. А когда однажды привиделась она ему, будто наяву, на гульбище — затрепетало, забилось сердце: не стряслось ли беды какой с княгиней, не кличет ли она его к себе?..
И на другое же утро ускакал Всеволод с малой дружиной в Ростов.
Умаялся он в дороге, менял коней в деревнях, скакал почти без сна и без отдыха. Крепок он тогда еще был, упрям и на решения скор. Любая непогодь была ему нипочем. Извел он и себя и дружинников, громким топотом всполошил привыкших к дреме ростовских псов. Воротника вгорячах ожег плетью, шатаясь от усталости, ввалился в терем.
И пока слуги, поднятые среди сна, зажигали в переходах свечи, сжимал уже Всеволод Марию в своих объятьях, запрокидывая ей лицо, целовал в лоб и в шею.
— Да что случилось-то, что? — отстранялась от него с испугом княгиня.
Она глядела на его помятую одежду, на впалые щеки и вздрагивавшие губы и ловила взглядом лихорадочный блеск его беспокойных и счастливых глаз.
Потом были дни короткого, как солнечный проблеск, счастья. Потом суетно собирались в обратную дорогу, торопили слуг, наставляли растерявшихся отроков.
Лука вышел благословить княжескую чету, но Всеволод, не глядя на него, наскоро перекрестился и велел обозу трогаться. Со смешанным чувством сожаления и радости проводила Мария скрывшиеся за деревьями купола ростовских соборов.
2
Обратный путь показался ей утомительным и долгим. После первых солнечных весенних дней погода вдруг сразу испортилась, неожиданно зарядили тихие и нудные дожди.
Возы кособочились, утопали в грязи. Мужики рубили в лесу валежник и сосновые лапы, бросали под колеса, засучив по колено порты, полоская в лужах рубахи, помогали измученным коням.
Коротко передохнули в Переяславле. Всеволод звал на пир тамошних бояр и старых своих знакомцев, с которыми знался, когда был здесь князем.
Народу набилось в терем видимо-невидимо. Во дворе горели костры, над кострами висели медяницы, и возле них крутились, готовя для гостей еду, проворные сокалчие. Повсюду стояли бочки с медом, народ пил и славил князя.
В самый разгар пиршества, когда уж многие из гостей подремывали за столами, а те, что покрепче, пили за двоих и веселились пуще прежнего, выхваляясь перед Всеволодом, появилась в тереме древняя старушка с клюкой, в черном платке. Перешагивая через пьяных, она привычно прошла в сени и приблизилась к князю.
Всеволод был весел, на старушонку внимания не обратил, а продолжал беседовать со Словишей. Вдруг он обернулся и, меняясь в лице, приподнялся с лавки:
— Ты ли это, Настена?
— Признал, касатик? — заулыбалась старуха беззубым ртом. — А я уж думала, давно забыл свою мамку.
— Про то и говорить не смей, — сказал Всеволод.— Да ты садись к столу, почто стоишь предо мной, яко пред иконою?!
Всеволод встал, обнял старуху, усадил ее рядом с собой.
— Сколько лет тебе, мамка? Вспоминаю я годы былые: юн я тогда был, а ты и в те поры всех своих сестер пережила.
— И, миленький. Сестры-то мои со-овсем молоденькими богу душу отдали. Ежели помнишь, страшный мор в те годы прошел по Руси — вот их бог и прибрал. Одной-то, Феклуше, всего шестой десяток пошел, а Матрена до ее лет не дожила. Шибко и я тогда хворала, на одних травках выдюжила — с того времени ноженьки у меня и свербят...
— Выпей, Настена, медку. Враз полегчает.
— Мне ли меды пить, соколик, — покачала головой мамка. — Меня и от воды из стороны в сторону раскачивает.
— Ну так поешь чего...
Всеволод пододвинул ей блюдо с жарким. Мамка улыбнулась грустно и снова покачала головой:
— Куды мне с лосем управиться. Сколь уж лет одной только кашицей пробавляюсь — нет зубов у меня, все до единого выпали...
— Так чем же угощать тебя, мамка? — совсем растерялся Всеволод. — Может, кваску подать?
— Кваску-то я бы испила...
— Эй вы! — крикнул Всеволод слугам. — Ну-ка живо несите квасу. Да послаще, да поядреней. Мамку свою буду потчевать.
От слов его ласковых совсем растаяла старушка.
— А я уж, грешная, про себя подумала: отринешь ты Настену, не приветишь старуху на своем пиру. Эвона сколь бояр собралось за твоим столом.
— Твоим молоком я вскормлен, Настена. Как тебя забыть? — растроганно проговорил Всеволод. Осторожно обнял старуху за плечи, заглянул ей в слезящиеся глаза.
— Доброй ты, — сказала Настена. — Отец-то твой, князь Юрий, куды как крут был. Помню, привез он тебя, слабенького, в Переяславль, кликнул меня и тако говорит: «Отдаю тебе, Настена, свое дитя. Корми его полной грудью, да чтобы не хитрила: первое молоко — молодому княжичу». А у меня тогда тоже мальчоночка народился... Пригрозил князь: «Ежели не выкормишь — спуску не дам, так и знай». Вишь, вскормила, — грустно улыбнулась она. — Эвона какой высокой да статный вышел. А мальчоночка мой помер — царствие ему небесное... Скоро уж, верно, с ним свидимся. Ты вот меня про годы спрашивал. По второму веку топчу землю, сколь еще топтать? И себе не в радость, и людям в обузу. Тошно.