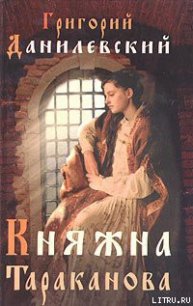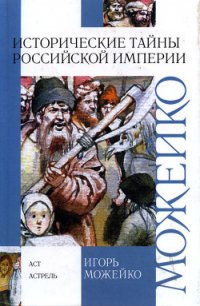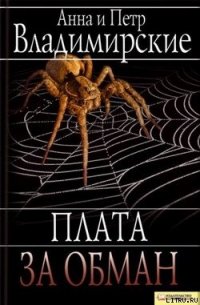Княжна Владимирская (Тараканова), или Зацепинские капиталы - Сухонин Петр Петрович "А. Шардин"
Старуха, которая пяти целковых у себя разом в целую жизнь не видала, не верила своему счастью и отдала за них тысячную шаль и крупное бурмицкое зерно.
Лакей улыбнулся и, по своей великой щедрости, накинул ещё целковый без торгу.
Карета въехала на Никитскую и остановилась против узорчатого, расписного дома, принадлежавшего когда-то знаменитому кесарю Фёдору Юрьевичу Ромодановскому.
— Графиня приехала! — раздалось в доме, и всё засуетилось и бросилось ей навстречу.
Графиня вышла из кибитки, как-то рассеянно поглядела на дом, перекрестилась, взглянув на недалеко стоявшую приходскую церковь, надела на стоявшего подле, снявшего шапку и просившего милостыню нищего свой малахай, а на стоявшего подле мальчика грязное, снятое со своей шеи полотенце и хотела было идти в подъезд, как её окружила прислуга, выбежавшая из дома.
— Матушка, графиня, вас ли мы видим? Дождались мы этой радости. Дайте вашу ручку поцеловать! Не простудите головку! Родная, кормилица наша, и ждали-то мы, и молились... Привёл-таки Бог! Позвольте вашу ручку поцеловать! Намаялись, чать, родимая! Кормилица вы наша!..
И прислуга понесла свою барыню наверх на руках.
Барыня молчала, смотря на всех рассеянно. Её поставили среди её гостиной. Она постояла, посмотрела кругом, потом как бы механически пошла далее, прошла столовую и буфетную палаты и вошла в образную.
Образная была небольшая комната, обставленная кругом образами и увешанная теплившимися перед ними лампадами. В углу, за аналоем, стоял в золотой ризе большой, старинной иконописи образ Спасителя в терновом венке; перед ним теплилась лампада, а на аналое стоял из чёрного дерева с серебряным ободком, крест.
Общая тишина, торжественность обстановки, теплившиеся лампадки, запах ладана произвели некоторое впечатление на вошедшую. Она прослезилась. Потом взглянула на образ, стала на колени, перекрестилась и распростёрлась ниц.
Люди подошли, она была без чувств.
Подняли графиню, положили в постель, послали за докторами.
Приехавшая была графиня Екатерина Ивановна Головкина, урождённая княжна Ромодановская. Единственная дочь единственного сына знаменитого князя-кесаря Фёдора Юрьевича Ромодановского, председателя пятичленного совета, управлявшего царством во время путешествия Петра за границу, потом начальника Москвы, Преображенского приказа и тайной канцелярии, имевшего титул величества и право производить в чины. Крестница самого государя, она росла, лелеемая и отцом, и дедом и оберегаемая целым сонмом приспешниц и рабынь. Казалось, на её долю выпало всё, чтобы её жизнь была завидной для всех. Несокрушимое здоровье, редкая красота, игривый, весёлый и лёгкий характер, неисчерпаемое состояние и положение деда, первого после царя человека в империи, делали её как бы привилегированной счастливицей будущего. Её положение не изменилось и со смертью деда. Отец вступил на ту же стезю, получил то же звание князя-кесаря и титул величества. Двадцати лет она вышла замуж, и по любви. Муж её, граф Михаил Гаврилович Головкин, сын государственного канцлера и потом председателя верховного совета, графа Гаврилы Ивановича Головкина, был старше её лет на пять. Скромный, серьёзный, любивший умственный труд и занимавшийся переводами классиков, он, несмотря на свою молодость, пользовался тогда ещё общим расположением и уважением. Он был также богат, знатен и мог надеяться на всё, что только может дать жизнь. А тут ещё взаимная любовь.
Весело праздновалась свадьба княжны Катерины Ивановны. Сенные и постельные девушки, одаряемые чуть не ежедневно влюблённым женихом, звонко распевали свадебные и подблюдные песни; смеясь и шутя, готовили приданое. Они вышивали серебром и золотом роброны и душегрейки, обшивали дорогими кружевами занавеси и бельё, суля прекрасной невесте, их дорогой и золотой княжне, радость и такое счастье, какого, кажется, и на свете не бывает, но которое, казалось, должно было осуществиться воочию когда княжна их станет молодой графиней. Прошёл девичник, весело отпраздновали свадьбу. Государь Пётр I посажёным отцом был; сам устраивал маскарад, чтобы повеселить молодых и старых, сам потешные огни зажигал.
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})Не забыт был, разумеется, всепьяннейший собор с его князем-папой Бутурлиным, не забыты были и маскарады разные, чтобы позабавить молодых на другой день. Всё было весело, всё было радостно, как радостно, надо было думать, пройдёт и вся жизнь новобрачных.
Казалось, что всё так и шло. Графиню Екатерину Ивановну все любили. Свёкр Гаврило Иванович души в ней не чаял. Не стало государя Петра I, милостива была и государыня, а после неё и молодой государь и к отцу, и к свёкру, и к мужу, и к ней. А государя не стало, так двоюродную тётку государыней сделали, да какую ещё тётку-то, которая любит и помнит родных.
Так-то оно так, да вот у тётки был фаворит, конюх проклятый, из немцев, Бирон. Он Михаила Гавриловича терпеть не мог и не давал ходу. Ну, это бы ещё и ничего, с этим можно смириться; жить есть чем и не занимая важных мест, а государыня хоть и слушала фаворита, но свою родню в обиду не давала. А вот горе: болезнен стал Михаил Гаврилович, хворал всё и грустен стал от того, занятие классиками бросил, а всё больше сидел и охал. Ну какое жене веселье, когда муж, да ещё любимый муж, всё болен.
Пришлось графине Екатерине Ивановне вместо светлой, весёлой жизни в сиделки идти, за больным ходить.
Но умерла государыня, и совершился переворот. Цесаревна Елизавета вступила на престол, и граф Михаил Гаврилович был арестован.
По инициативе князя Никиты Юрьевича Трубецкого, мстившего графу Михаилу Гавриловичу за то, что он сперва противился его браку на его сестре Настасье Гавриловне, а потом, когда свадьба, несмотря на противодействие, состоялась, то отстаивал свою сестру, перед ним виноватую, от его мужнина самовластия, — дело это было представлено в таком виде, что императрица Елизавета должна была признать ссылку графа Михаила Гавриловича необходимой, ради личной безопасности. Она и утвердила эту ссылку без противоречия, так как и сама имела поводы быть сердитой на графа Головкина; но, утвердив предположение о его ссылке, она пожалела Екатерину Ивановну, которую любила, как любили её все. Она сейчас же послала к ней Лестока уговаривать, чтобы она не ехала с мужем, обещая ей свою милость и покровительство.
— Что Бог соединил, человек не разлучит! — отвечала Екатерина Ивановна.
Напрасно Лесток из кожи лез, стараясь доказать, что для самого мужа её будет выгоднее и покойнее, если она останется здесь; говорил, что императрица не тронет даже его имений, оставит её пользоваться всем, стало быть, она и ему будет в силах помогать; потом, что, пользуясь здесь милостью императрицы, она скорее может выпросить ему помилование. Екатерина Ивановна была непреклонна.
— Какая жена я буду своему мужу, когда, живя с ним в довольстве и счастии, я покину его в бедности и несчастий? — отвечала Екатерина Ивановна.
Лесток прибегнул к угрозам, говоря, что рассерженная государыня, узнав её упорство, причислит и её к числу преступников, заслуживающих кары, и велит конфисковать не только его, но и её имение, и подвергнет обоих самой строгой ссылке.
— Тем паче, тем паче и старательнее я должна ходить за ним, — говорила графиня. — Он болен, страдает, несчастлив... Он и здесь страдал; но здесь было всё к его услугам, все старались ему угодить. И тут я была необходима. Я успокою, бывало, его утешу, отвлеку мысли от болезни чем-нибудь мелким, услужу — и ему приятно. Да, здесь сто человек к услугам было; дом — дворец; всего полная чаша. А там кто ходить за ним станет, кто позаботится, чтобы хоть водой напоить его от жажды, хоть хлебом накормить от голода? Кто прикроет его, когда он озябнет; освежит, когда он горит? Кто рассеет его в минуту грусти: поплачет, наконец, с ним о нашем общем несчастий? И когда же? Когда он брошен будет всеми? Когда лета подходят к старости, а болезнь требует спокойствия. И я брошу его, оставлю его вместе со всеми, я, его жена, подруга его жизни? Ему и голод, и жажду будет легче перенести, если он будет видеть, что вместе с ним и я твёрдо переношу их; в холод я согрею его, в жар — освежу его, в трудные минуты болезни, слабости, расстройства — облегчу, утешу, успокою; наконец, если уж судил так Бог, в последние минуты жизни закрою глаза ему и похороню его... Я сильна, здорова и нестара, — продолжала Катерина Ивановна. — И она встала перед Лестоком, вытянулась во весь сбой стройный рост, протянула белые, нежные, но сильные, мускулистые руки. Ей было тогда с небольшим за сорок, но она сохранилась хорошо, ни одной морщинки не было на её белом, нежном лице. Глаза ещё метали огонь; губы ещё розовели от волнения. — Правда, непривычна я к работе, балованна смолоду, но я для своего мужа-друга сумею сбросить с себя баловство, приучить себя трудиться. Он берёг мою молодость в счастии, я буду лелеять и беречь его старость в студе и горе. Я русская, граф, — сказала она, выпрямляясь и сжимая руки, будто Пифия на своём треножнике, — виновата, вы ещё не граф... всё равно будете графом. Я русская, государыня тоже русская, а по нашему обычаю — «оставь отца и мать и прилепись к мужу своему»; стало быть, оставь богатство, почести, раздели с ним бедность его, раздели нужду его. Скажите это государыне, граф; скажите ей, что пусть она не лишает меня того, что и по русскому закону составляет мою обязанность перед людьми и Богом!