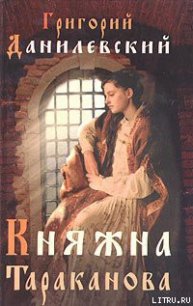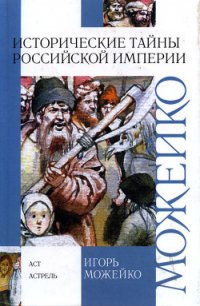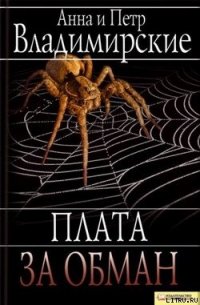Княжна Владимирская (Тараканова), или Зацепинские капиталы - Сухонин Петр Петрович "А. Шардин"
Тут ни граф, ни графиня не выдержали, расплакались сами как дети; бросились на шею своим крепостным, обнимали их, целовали, будто увидели родных и самых близких.
Полегче стало жить графу и графине. Им служили, о них заботились трое мужчин и три женщины, и служили с охотой, со всей преданностью любящих людей. Они жили уже не в юрте, а в избе, выстроенной Ефимом с товарищами, даже и не Ефимом, потому что дворовые люди плохие плотники; но с деньгами можно было найти плотников даже в Якутской области, и Ефим, прокружив вёрст 80, нашёл двух хороших плотников и печника, которые при помощи своих и даже самого графа Михаила Гавриловича в здоровые минуты выстроили две избы, соединённые крытыми сенями. В одной избе расположились дворовые, а в другой, с чистой горницей и светёлкой, сами граф, графиня и при ней её горничная Маланья.
Итак, жить стало полегче графине. Не приходилось таскать дрова или воду, не приходилось самой варить себе суп. Тем не менее, с нравственной стороны, ей было страшно тяжело. Муж больной, хмурый, видимо, находился во всегдашней тоске, близкой к отчаянию; обстановка жизни была тяжкая; наконец, гнёт скуки, усиливавшийся от самого отсутствия деятельности, — всё это не могло не оказать на графиню Екатерину Ивановну вредного влияния. Екатерина Ивановна, разумеется, первою обязанностью своей, первой заботой поставила себе мужа; он был и её душевной болью. Видя его страдания в хронической болезни, подтачивавшей его жизнь, облегчить которую было не в её власти, видя его безысходную тоску, она исстрадалась, измучилась сама. Не могла также она не смущаться мыслию, что даже теми немногими удобствами, которыми они пользуются, они обязаны беспредельному великодушию людей, которые рисковали своею жизнью, чтобы доставить им эти удобства и о которых прежде она не думала и даже за людей не почитала. Совокупность всего, давившая постепенно год, два, пять, десять лет, естественно, отразилась на характере Екатерины Ивановны, на её воззрении на жизнь. Как ни жива она была смолоду, какой лёгкостью и весёлостью нрава она ни обладала, а всё день ото дня становилась апатичнее; она начинала относиться ко всему безучастнее, так что иногда казалось, будто, слушая, она не слышит, смотря — не видит.
Одно, что не переменилось в Екатерине Ивановне, это её бесконечная доброта ко всему живущему и беспредельная любовь к мужу. Начиная от певчей птички и жившего у них ежа и кончая каждым мимоидущим, всякий не мог не чувствовать её беспредельной доброты, готовой не поделиться с каждым, а каждому отдать всё. Что же касается до мужа, то она смотрела ему в глаза, ловила его желания и всего более мучилась его страданиями.
А страдания эти были чрезвычайны. К общей болезненности, происходившей или, по крайней мере, усилившейся от нервных потрясений, у него открылся ещё рак груди. И с такой-то болезнью приходилось бороться Екатерине Ивановне, против такой болезни приходилось отстаивать дорогую ей жизнь мужа и друга, которому она посвятила всю себя.
Наконец, отстаивать было уже нечего. Не только дни, но даже и часы Михаила Гавриловича были сочтены. Четырнадцать лет она ходила за ним в глубине Сибири, четырнадцать лет берегла его не только от болезни, но и от самого себя, а тут и беречь было нечего. Михаил Гаврилович лежал в смертной агонии. Что было с Екатериной Ивановной в это время, нельзя и сказать. Было глухое отчаяние, было умоисступление, была нестерпимая сердечная боль, выразить которую нет слов. Но она сдержала слово, данное ею при выезде из Петербурга: она закрыла ему глаза и похоронила его. И потом впала в апатию, до потери сознания.
В таком виде повезли её из Сибири, после почти полугодовой переписки о её выезде. Тут в ней разгорелась страсть к лошадям, как и вообще ко всем животным; она думала: они теперь везут меня, вывозят из этих ужасных мест, я должна быть им особо благодарна. И вот она обвешивала их разными цацами, как бы одевала их в погремушки, бубенчики. Страсть эта, которую, может быть, отчасти развил Ефим, страстный любитель лошадей, заставила её весьма долго ехать из Сибири. Жаль было лошадей. Они ехали на долгих. С дороги одну из повозок с людьми отправили в Москву приказать, чтобы истопили дом и были готовы принять графиню, а сама она с Ефимом и Николашей заехала в Троицко-Сергиеву лавру. Наконец и она приехала в Москву, в свой отцовский дом, и после молитвы перед образом, которым отец благословил её на счастие, выдавая замуж, повторив своё благословение перед смертью, теперь лежала у себя на постели без чувств и без памяти.
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})Дворня чуть не вся разбежалась за докторами.
Но докторам не удалось повозиться с Екатериной Ивановною; она опомнилась сама, вдруг вскочила, надела на голову не то ток, не то малахай, вообще что-то непонятное, накинула на себя платок, надела торопливо свой соболий тулуп и побежала. Она вошла в церковь, где часто бывала ещё дитятей и молилась, чтобы Бог укротил гнев и сердце её деда, страшного кесаря Фёдора Юрьевича, и послал в его сердце милосердие и прощение; где молилась, чтобы Бог научил его прощать виновных, а не мучить невинных; она пришла туда и теперь стала молиться за упокой души всех: и деда, и отца, и мужа, и свёкра; всех схоронила, одна осталась... Правда, и ей пора было умереть, за шестьдесят стукнуло, да что же делать-то, когда не умирается, когда смерть не приходит? После молитвы ей стало легче. Она пошла тихонько домой, в то время как весь дом чуть с ума не сошёл, куда девалась больная барыня.
Графине попался мужичок худенький, бледненький, больной. «Точь-в-точь мой Михаил Гаврилович, как я его в Сибирь-то привезла!» — сказала она себе и подошла к нему.
А шубёнка на нём была рваная-перерваная, овчина-то в ней вытерта донельзя и заскорузла так, что не разгибается, а грязная какая, кажется, только грязью и держится.
— Что, озяб, мужичок? — спросила графиня. Это был её любимый вопрос. В Сибири она привыкла спрашивать прежде, не холоден ли, а потом — не голоден ли.
— Озяб, сударыня, больно озяб; да ишь морозы-то стояли какие...
— А далеко идёшь?
— Да за Москву вёрст с двадцать будет, деревня Голяшкина есть, мы оттеле.
— Ты совсем замёрзнешь, мужичок, куда ж тебе? Давай скорей свою шубу, а возьми мою, моя теплее будет!
— Как же это, барыня? — спросил мужичок, недоумевая.
— Снимай, снимай, в этой шубе согреешься!
И она уже стянула с себя свой тулуп.
Мужик тоже не задумался снять свой полушубок.
И она обменяла свой соболиный, правда, крытый простой крашениной, тулуп на рваный, грязный полушубок, который надела на себя, не замечая, что сошлась толпа, с любопытством оглядывавшая, как это барыня меняется шубами с мужиком.
Дома так и ахнули, увидев графиню в мужичьем полушубке.
— Матушка, графиня, что с вами? Да где же шубка-то ваша?
— Ничего, ничего! Я с мужичком поменялась. Бедняку далеко идти приходится, а морозно, озяб, сердечный.
Все разинули рты.
— Э-х, как же вы упустили, и никто не пошёл за ней! Тулупчика соболья жаль, там на месте рублей пятьсот стоил... Как же упустить было? Мы с приезда занялись кое-чем, а вас туту мало, что ли, было? — говорил Николай прислуге.
— Да кто же знал, что она на улице шубами меняться станет?
— Видишь, кажется, что она как малый ребёнок. Нет, мы уж всегда за ней. Встретит кого она, с себя что есть отдаст. «Помяните раба Божьего Михаила», говорит; а то как поменяется; а мы уж тут и выкупаем. Маланья, кстати, возьми у меня графини ну шаль да бурмицкое зерно, давеча шесть целковых выкупу затратил...
— Ей бы лучше деньгами...
— Деньги ей нельзя носить. Первому встречному разом всё отдаст; говорят, что она словно малый ребёнок! Нет уж, братцы, как там знаете, а за ней надо ходить.
И Николашка начал любезничать с выросшими без него красавицами, хотя и ему было уже под сорок лет.