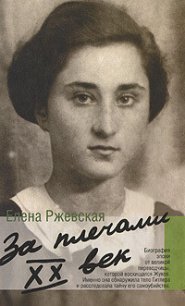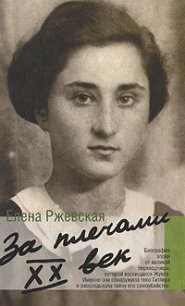Берлин, май 1945 - Ржевская Елена Моисеевна (бесплатная регистрация книга txt) 📗
Часовой задерет голову и ждет, вернется ли. Вынырнет вдруг над головой звук, живой и резкий, — легче прежнего идти разгрузившейся машине. Часовой поправит ремень автомата, опять зашагает вдоль дома. От завешенных окон чуть брезжит свет, тихо на хуторе.
В школе во «втором классе» крепко спят на топчанах бойцы разведвзвода. Я засыпаю на своем столе, слушаю, тихо ли: вчера на левом фланге на участке Ножкино-Кокошкино немцы атаковали нас танками и потеснили на полтора километра.
За переборкой проснулась Таська — дочь Маньки-»молодухи», хнычет, зовет мать. Старуха свекровь громко шепчет:
— Уймись, моя птушечка, молчи, желанная. Матка твоя нейдет, — знать, кобель где-то притиснул.
Стась, пообщавшись с Сашкой, строчит прошение майору Гребенюку принять его в разведчики. О себе он сообщает:
«Я родился в 1931 году. На Кавказе Кубань. Отец был Поп мать неработала. Когда умер отец и мать я переехал под Москву на иждивении бабушки. Когда бабушка умерла переехал к брату который работал учителем. Брат был чахоточный. Мы жили с ним полтора года он умер. Он умер при немцах. Был он Комсомолец. На него был донос. Его забрали немцы ночью в гестапо. Били в штабе его, спрашивали про партизан. У него пошла из горла кровь и он умер. Когда я остался один был у немцев еще два месяца. Когда угнали немцев военный доктор хотел отправить меня к тете, но уехал. Адрес тети Клавдя Семеновна Кировская напротив вокзала».
Стась сидел на своей старой кровати, которая с ним вместе переехала с Кубани к бабушке, а потом сюда, к брату. Он не помещался на ней, и, когда укладывался спать, просовывал ноги между прутьями на подставленный табурет. У окна учительница выправляла ошибки в автобиографии Стася. Вдруг, отложив листок, она ткнулась лбом о подоконник, вздрагивая от беззвучного плача.
— Что вы, Нина Сергеевна, ну что вы? — беспомощно забормотала я.
Стась дернул меня за подол гимнастерки и поманил из комнаты.
— Это она о брате, — хмуро сказал он и замолчал. — Они целовались, — снисходительно, точно прощая им, добавил он немного спустя. — Надо идти. Филькин звал, чтоб я учил его на мандолине.
Он пошел, маленький, утонувший в братнином пиджаке, опоясанный красноармейским ремнем.
Ночь выдалась на редкость холодная, темная, ветреная; ветер теребит ветки деревьев. Стихнет на минуту, и в палатку доносит топот шагов.
«Стой! Кто идет?» — кричит часовой. И в ответ: «Разводящий», — смена часовых. Медленно, назойливо гудит далеко в небе немецкий самолет.
— Палатка Белоухова! Окошко неплотно прикрыто! — И раздраженно: — Эй, кто там, оглохли, что ли? Демаскируете!
Я вскакиваю, закутываю плотнее окошко. Сегодня я дежурю у радиоприемника. Белоухов спит тут же на топчане. На земле, подоткнув под себя полы солдатской шинели, скрестив ноги, сидит разведчик Хасымкули. Подбрасывает дрова в железную печку, открыв дверку, смотрит на огонь. У него тяжелый взгляд темных узких глаз, четкий, яркий рот и нежная краска на скуластых щеках; молчалив и медлителен; не замечает, как ветер задувает в трубу и дым ест глаза.
Сейчас Хасымкули подымется и уйдет на передовую.
Ветер треплет палатку, Хасымкули покачивается, огонь ходит по его лицу.
Печь давно заглохла. День пробился в плохо прилаженные трубы. Хасымкули уже нет в палатке.
Сквозь треск в эфире вдруг ворвалось истошно; «Achtung! Achtung! Немецкие солдаты под Ржевом. Солдаты под Ржевом! Наши войска прорвали оборону врага на юге России… Слушайте утреннее сообщение вермахта…»
А на втором плане тупо звучал фашистский марш.
Явился наш письмоносец, доставил почту. Письма обычно читают вслух. Сегодня получил открытку капитан Петров:
«Дорогой дядя Пумик! Поздравляю тебя с Первым мая! Как ты живешь? Едем мы ничего. Только у мамы почему-то заболела рука и плечо. Мы больше стоим, чем едем: вот, например, мы ехали только один день через Краснодар, а в Тулузке мы стояли целые сутки. Дядя Пумик, Первое мая мы будем встречать в вагоне. Куда мы едем, — неизвестно, сначала говорили, что мы едем в Бугуруслан, а потом стали говорить, что мы едем на Урал, а сейчас стали говорить, что мы едем в Чкалов. Дядя Пумик, когда мы приедем, я сейчас же напишу тебе письмо. Крепко-крепко тебя целую. Рита».
Льет дождь. Он льет с неделю, затяжной, монотонный; весны, тепла как не бывало. Опять стонут машины на фронтовом бездорожье. «Бог создал небо и землю, а черт калининские дороги», — ругаются водители. В частях расходуется неприкосновенный запас продовольствия. Еще совсем недавно надоевшую пшенную кашу называли насмешливо «Витамин Пе», «Блондинка», а овсяную «И-го-го!», подражая лошадиному ржанию. Теперь они в великом почете, если достаются.
Мешки с сухарями в лодочках тянут по раскисшей дороге на передовую собачьи упряжки. Выбившиеся из сил собаки валятся на землю и воют. Шагающий рядом с упряжкой боец в накинутой плащ-палатке, с шестом в руках командует сорванным голосом: «Вперед! Вперед!» — это единственный вид транспорта, не поддающийся мату. «Вперед!» Вожак подымается, тащит за собой упирающихся собак, они тянут груз, захлебываясь жалобным, истошным лаем.
Над дорогой, ожесточенной, матерящейся, буксующей и ревущей моторами машин, висит сиплый призывный возглас: «Вперед! Вперед!» Невдалеке бомбят, несмотря на дождь. Это на участке Ножкино-Кокошкино. Дрожит земля, точно ее взяли за край и встряхивают, как одеяло.
На болоте устроен бревенчатый настил, лошади с трудом идут по нему, соскальзывают в щели между бревнами.
За поворотом дороги старый шлагбаум вздернут кверху, застыл нелепым журавлем. Сожженная деревня: голые трубы, вздыбленные от пламени железные кровати, искалеченная домашняя утварь. Одичавшая кошка с голодным блеском в глазах бесстрастно прошла мимо. В темном проеме уцелевшей части дома трепетали от ветра клочья занавесок, они казались одушевленными на этом пустыре.
Здесь была деревня Леонове. В феврале немцы расстреляли все население за связь с партизанами и сожгли деревню. Жителей загнали в землянки, где от тесноты бились, кричали и гибли дети. Потом потащили всех, кидали на снег и строчили из автоматов.
Это был небольшого роста круглоголовый солдат в истерзанном кителе. Он говорил быстро, и, чтобы понять, мне приходилось его переспрашивать. С печи на нас смотрела бритая наголо после тифа женщина. Она сказала сидевшему в избе старику погорельцу, указав на меня:
— Как-никак человек на двух языках разговаривать может, а мы и плакать-то по-русски не умеем.
Пленный рассказал о себе: он не был ни коммунистом, ни наци, ни даже социал-демократом. Ему не удалось окончить художественное училище из-за плохого материального положения семьи, но все ж у него, как и у всех мужчин старших поколений, есть профессия. Он — маляр. Он расписывал стены в кафе, выезжал на заработки в Данию, Норвегию. «Работать и путешествовать — в этом я видел свое призвание». Но когда началась война и нельзя было больше переезжать с места на место, он осел и женился.
— И теперь моя жена ждет первого ребенка. Наш ребенок «в пути», как говорят у нас. Вы представляете себе, что значит для нее не получать никаких вестей от мужа. Я умоляю вас, гнедигес фрейлейн, мой адрес записан в моей солдатской книжке, сообщите моей жене, что я жив. Ведь вы сможете это сделать через швейцарский Красный Крест, не правда ли, гнедигес фрейлейн?
О чем он? Господи, какой Красный Крест? Мы о нем понятия не имеем.