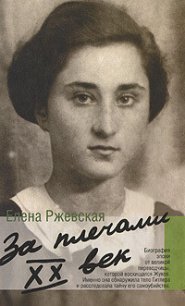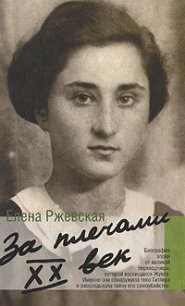Берлин, май 1945 - Ржевская Елена Моисеевна (бесплатная регистрация книга txt) 📗
— Завербовалась. Окончательно завербовалась. Там, говорят, фрукты уродились, а собрать рук не хватает.
— Ну и хорошо сделала.
Приблизив ко мне серые глаза, она зашептала:
— Свекрухи боюсь. Как сказывать ей буду?
Я засмеялась. Глядя на меня, засмеялась и Маня. В маленьких ушах ее дрожали прозрачные стеклышки в серебряной оправе. Она воткнула лопату в землю и пошла в дом, пряча под косынку выбившиеся волосы.
Через хутор шли возвращавшиеся с работ на дорогах ужакинские бабы. Те, что постарше, — в длинных юбках в складку с самодельной тесьмой понизу.
Вечером тихо наигрывал гармонист, вокруг толпились бойцы. Филькину принесли письмо; он прочел и стоял, не скрывая разочарования. Он неохотно отдал письмо Бутину, и тот, с трудом разбирая в сумерках, прочитал вслух. И с первой же строки, как только стало ясно, что Филькина опять постигла неудача, все до того развеселились, что нельзя было разобрать больше ни слова.
Девушка из Торжка писала Филькину:
«Получив письмо, я была удивлена Вашим письмом и думаю, что оно послано для смеха. Прошу, напишите все и, если можно, пришлите фото. Потому что я вас не помню и даже не имею представления, может быть, какой дяденька на смех, то я не советую заниматься бумажной волокитой, т. к. очень плохо обстоит дело с бумагой».
Гармонист продолжал наигрывать, и Степа-повар плясал один. Но вот гармонист до отказа развернул мехи гармони, выжал их и, сдирая с плеча ремень, крикнул Степе:
— Давай без музыки работай! Перекурим?
— Эх, — затянул Степа, остановившись и широко расставив ноги, — сербияны сено косят…
— Сербияночки гребут, — подхватили все в разноголосицу, засвистали, заулюлюкали.
— Чего ж стоишь, цыган?
— Без девчат, одне гуляете? — спросила подоспевшая из-за кустов Маня.
— Девчата? — закричал Степа-повар. — Да девчата теперь как разбойнички, редко попадаются, — и под общий хохот грохнулся на лавку. Посмотрел на меня:
— Прости, молодая, заругался, не заметил.
— Ужакинских бы девчат кликнули, — предложила Маня.
— Нам бы хоть одну, — громко и жалобно протянул Степа, — для разварена.
Гармонист надел ремень на плечо, заиграл плясовую.
— Маньку! Маньку тащите.
Маньку вытолкали вперед. Она обошла круг, подбоченясь, притопывая:
— Ах! Ах!
Наперерез Мане выскочил Бутии и заходил вприсядку вокруг нее.
— Ай да Бутин!
Маня запыхалась, смяла такт, сошла. Бутин подлетел ко мне, пляшет, вызывает в круг.
— Выходи, товарищ лейтенант! — крикнул Степа.
— Стой! — закричал кто-то. — Свистит! Прервалась музыка.
— Чего свистишь? — крикнул Степа-повар.
— Отбой! — отозвался часовой. — Майор приказывает.
— Сядь, Манька. Поговорить надо, скоро ведь едешь, — говорит свекровь. Она сидит на сундучке, в котором хранит вырученные от продажи молока деньги. Копит их рьяно, сурово. Дом-то их на передовой остался. Как немца отгонят, заново строиться будут. — Сядь же, кому говорят. — Маня продолжает стоять. — Помни, наперекор моего желания едешь. За молодыми девчатами гонишься. Ты им не пара. У тебя муж есть.
— Будет вам, уже слышали.
— На прощанье сказать схотела, ты все сбиваешь. Слушай сюда, Марья: война кончится, домой возвращайся. Ваня придет — ни жены, ни дитя в дому нет, спросит, где ты. — Старуха быстро разглаживала юбку на коленях, голос ее дрогнул. — Ванюшку помни, он ведь на войне мается.
Маня громко всхлипнула и, не утирая слезы, пошла вон из кухни.
— Таську, Таську береги, — протянула ей вслед старуха.
…Не попрощавшись ни с кем, незаметно ушла Никитична. Старым, изведанным путем, через рвы и окопы, через проволочное заграждение пробирается она в Ржев к руководителю подпольной группы.
Где-нибудь на той стороне фронта ее задержит немец, обыщет и, не найдя ничего подозрительного, швырнет ей обратно мешок с сухарями и грязные, долго служившие карты. И пока она будет прятать карты в чулок, немец, разглядев ее, поспешно надвинет пониже на лоб ей ветхий шерстяной платок, отбежит назад и щелкнет аппаратом. В письме своей родне «mit Gru? und Ku? vom weiten Osten» он пошлет фотографию Никитичны, на которой из-под платка внимательно и враждебно будут смотреть ее маленькие глазки, и подпишет под снимком: «Russischer Typus».
НП дивизии. В лесу густо лепятся друг к дружке блиндажи, образуя подобие узкой улички. Над протоптанными тропинками от сосны к сосне протянуты сколоченные наскоро перила, чтобы в темноте передвигаться на ощупь, не зажигая фонаря, — приказано строго соблюдать маскировку.
Ночью слышен гул моторов, лязг гусениц — это танки подтягиваются к передовой. Дивизии предстоит вступить в бой за расширение плацдарма на высоком берегу Волги. Операцией руководит командующий армией. Он находится здесь же, на НП дивизии, при нем оперативная группа, в которую вхожу и я как переводчик.
Высланные на поиск разведчики вернулись без «языка». Они принесли документы убитого ими немца.
Солдатские книжки и письма, если они хранятся в конвертах, на которых указан номер полевой почты, могут дать важные сведения о тех, кто стоит против нас: об их перегруппировке, о пополнении, прибытии новых частей.
На этот раз письма без конвертов, их много — целая пачка, и все от женщины. Она пишет, что ждет, мечтает о нем, любит и сожалеет, что до сих пор не отменено запрещение на отправку посылок. Она собрала ему множество вкусных вещей, шарф и теплые перчатки. «Там у вас очень холодно, одевайся теплее, милый. Мама уже заняла два места в церкви на рождественскую ночь. Там будет, наверное, очень красиво. Мама кланяется и шлет тебе к рождеству сердечный привет и поцелуй».
Следующее письмо датировано январем. Женщина сообщает, что переставила мебель в спальне, и рисует на отдельном листке план комнаты. И такой в этих письмах уют ожидания…
Я вдруг вспоминаю эти же январские дни под Калугой, когда, получив назначение, добиралась в часть…
От Рюрикова поезд дальше не шел. Ветер жег лицо, и коченели руки. Только бы дойти до Алексина.
Повстречались сани с ранеными. Кто мог, бежал за лошадью, чтобы не замерзнуть.
Наконец Алексине. Нигде нет дымка, нет жилья. Одни голые, мертвые трубы на много километров вокруг. Бездомная военная Россия.
У разбитой станции вдруг маленький дом, заваленный снегом. И вроде бы тянет дымком. Толкаю дверь. Она отворяется прямо в комнату. Обдает долгожданным теплом. От резкого окрика останавливаюсь на пороге.
— Без дров никого не впускайте!
Это кричит женщина в темном платке. Она стоит спиной к двери, прикрывая собой двух закутанных маленьких детей, сидящих на столе. Оконная рама затянута немецкой тарой — серый холст с черной свастикой посредине. Мерцает коптилка.
Я продолжаю стоять, не в силах ничего произнести замерзшими губами. Поминутно хлопает дверь, врывается, клубясь паром, холодный воздух, входят бойцы. Женщина, не оборачиваясь, ожесточенно кричит сорванным голосом:
— Без дров никого не впускайте! У меня дети больные!..
Я продолжаю читать письма от немки и вдруг ясно вижу, как в уютный дом к этой женщине входит почтальон и протягивает конверт с черной каемкой.
Мне поручено написать короткое обращение к немцам. Я призываю их сдаваться в плен, если им дорога жизнь, семья и родина. «Но если ты, немецкий солдат, не прислушаешься к голосу разума, то…»
Призыв готов, и командующий решает не связываться сейчас с политотделом, а немедля направить переводчика, то есть меня, на передовую, чтобы прокричать фрицам в рупор этот призыв.