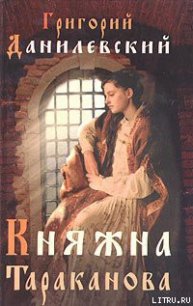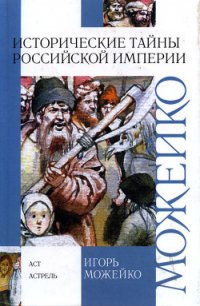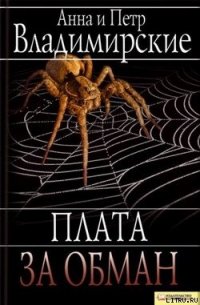Княжна Владимирская (Тараканова), или Зацепинские капиталы - Сухонин Петр Петрович "А. Шардин"
X
КНЯЗЬ СВЯЩЕННОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
Во Франкфурт Али-Эметэ прибыла окружённая всем своим двором и со всей внешней пышностью, но почти без гроша денег. Впрочем, Ван Тоуэрс успел ту же минуту занять на своё имя небольшую сумму у одного афериста, который знал его отца-миллионера и, не зная, что эти миллионы давно уже в воздухе, польстился на большие проценты.
Но эта сумма была каплей в море по жизни Али-Эметэ.
Положение её было весьма тяжкое. Она остановилась в гостинице «Три короля», первой тогда в городе и самой дорогой, и обставила себя, по возможности, прилично принятому положению, между тем средств не было никаких и, как ни бились гоф-интендант её двора де Марин, её шталмейстер барон Шенк и гофмейстер Ван Тоуэрс, или барон Эмбс, чтобы перехватить сколько-нибудь на текущие расходы, всё было напрасно. Кроме незначительной суммы, занятой Ван Тоуэрсом, все они не могли добыть ни копейки. Немцы народ положительный и ни в дядюшек, ни в ожидаемые наследства верить не хотели.
Али-Эметэ сама знала, что надеяться ей не на что. После разговора с отцом Флавио она поняла, что и дядя, и кредит, и отношения её все в руках отцов иезуитов, а от последователей Игнатия Лойолы нельзя ждать помощи, не приняв их планов, не отдав в их распоряжение всю себя.
Но на такое самоотвержение Али-Эметэ согласиться не хотелось. Она была слишком самолюбива и слишком уверенна в себе, чтобы думать, что без иезуитской помощи она ничего не может. Жизнь слишком баловала её, слишком много вывозила в самые тяжкие минуты, чтобы думать, что если с нею что и случится благоприятного, то только при выполнении условий отца Флавио. Ей хотелось быть самостоятельной, хотелось бороться, хотелось заставить их принять, что хочет она, а не подчинять себя их воле; хотелось независимости, свободы. Но чтобы отстаивать свободу, чтобы бороться, нужно жить, чтобы жить, нужны средства к жизни, а средств-то не было никаких.
Вот прислуга просит жалованье; экипаж и лошади требуют содержания; гостиница — платежа по счетам; а у Али-Эметэ не было ничего.
Тут только Али-Эметэ поняла могущество капитала и поняла в такой степени, какой далеко она не могла достигнуть, находясь в крайней нужде в Берлине и Лондоне. Высота положения, какое она заняла, особенно давала чувствовать тяжесть нужды, невыносимость крайности. Она поняла теперь, что капитал может давить, может угнетать, и не только представителей труда, но и представителей рода; она поняла, что этот гнёт особенно тяжко ложится на последних.
В эту тяжёлую минуту, когда Али-Эметэ приходила уже в отчаяние, когда решилась писать отцу д’Аржанто, что, делать нечего, она предоставляет себя их власти, в эту минуту нежданно-негаданно вновь явился к ней со своим предложением и посильной помощью граф Рошфор де Валькур.
Тут было не до деликатности и не до разборчивости в женихах. Посильная помощь была принята, а вместе было не отринуто и предложение.
«Он небогат, правда, — думала Али-Эметэ, — но имеет кое-что; всё же жить можно; а мне теперь иначе предстоит или к иезуитам, или в воду броситься! Нет, я предпочитаю выйти замуж за Валькура».
— Итак, да? Прелестнейшая из прелестнейших, — спросил сорокалетний де Валькур, стараясь придумать мадригал, чтобы блеснуть своим остроумием. — Позвольте же вашу ручку, чтобы я мог поцеловать её в надежде обладания.
— Я никогда не говорила «нет»! — отвечала Али-Эметэ, подавая ему руки и бросая взгляд, полный вызывающей кокетливости.
Граф, кажется, готов был растаять от счастья.
Получив согласие Али-Эметэ осчастливить его своей рукой, он стал просить дозволения представить ей своего повелителя, владетельного графа, князя Священной Римской империи Филиппа Фердинанда II Гольштейн фон Лимбург де Линанж.
Али-Эметэ, давно мечтавшая о королях и принцах, внутренне обрадовалась этому заявлению своего жениха. Она с восторгом услышала, что увидит наконец у себя настоящего князя, владетельного, самодержавного графа, а не только графа по титулу. С тем вместе она была настолько осторожна, что не пожелала высказаться перед женихом, не захотела, чтобы он видел, что это предложение её радует; поэтому она немножко поморщилась, делая вид, будто просимое де Валькуром дозволение представить ей его государя весьма ей не нравится.
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})— Здесь, в обстановке гостиницы? Фи! — сказала она.
Тогда гостиницы не отличались ещё роскошью нашего времени. В них останавливались только те, кому остановиться было решительно негде, и хотя гостиница «Три короля» была самая дорогая и лучшая в городе, но далеко не имела того убранства, чтобы в ней в самом деле можно было принимать владетельных особ.
— Я сгорю от стыда, — продолжала Али-Эметэ, — когда мой гофмейстер должен будет ввести принца в залу, в которой у окон нет даже занавесок. Нет, граф, мы лучше примем его высочество в Пари лее!
Де Валькур стал убеждать, уверяя, что его граф и не вздумает обратить внимание на убранство комнаты, особенно если она захочет быть с ним любезной.
— Мой светлейший господин принц — любитель и знаток женской красоты, — объяснял де Валькур, — поэтому не может не заметить жемчужины даже среди и невзрачного убранства франкфуртской гостиницы!
Де Валькур, видимо, вновь желал сказать недвусмысленную любезность своей невесте. Тогда было в обычае говорить любезности не только невесте, но даже жене.
Но Али-Эметэ всё ещё отказывалась. Де Валькуру пришлось долго её просить, прежде чем она решилась согласиться, как бы уступая настояниям его и единственно из любви к нему.
Представление состоялось на другой день.
Имперский владетельный граф Гольштейн фон Лимбург в два часа дня подъехал к гостинице «Три короля» в роскошном английском тюльбери, новость того времени, с двумя адъютантами. Его сопровождали ещё верхом унтер-шталмейстер и два кирасира его миниатюрной гвардии. Его гофмаршал де Валькур встретил на подъезде. Он ввёл его на лестницу гостиницы, на этот раз устланную ковром. Ван Тоуэрс, по своему званию гофмейстера принцессы, встретил его и приветствовал от имени своей княжны. Затем принял его камергер де Марин и ввёл в комнаты Али-Эметэ, украшенные на этот раз всем, чем только можно было украсить их в течение суток. Там, в первой же комнате, его встретила Али-Эметэ. Она сделала перед ним реверанс неопытной невинности, будто робеющей предстать перед столь высокой и знаменитой особой, какую в настоящую минуту она принимала. В то же время в глазах её сверкнул неизобразимо отрадный огонёк, засветилось что-то несказанно обаятельное, выразившееся также в её тихих, грациозных, будто округлённых движениях и в её гармонической речи. Казалось, будто она в одно и то же время благоговела перед величием удостоившего посетить её гостя и сознавала, что обязанность хозяйки не допускает её только восторгаться его личностью и оставаться созерцательницей его особы; что она должна постараться быть в его глазах тем, чем бы он желал, чтобы она для него была.
Старый сентиментальный холостяк, поразвратничавший-таки на своём веку довольно, что, однако ж, не мешало ему до сорока пяти лет строить идеалы, — граф Гольштейн фон Лимбург был совершенно озадачен этой нежданной, невероятной красотой. Он совершенно растаял от огня этих глаз, этих изящных, но полных страсти движений, этого лёгкого покачивания с ножки на ножку и мелодически музыкального приветствия. Он позабыл и кто он, и зачем приехал, забыл и Рошфора, и своих адъютантов; он только смотрел и смотрел, как бы обливаемый отрадой её взгляда.
Он слышал, что де Валькур что-то говорил, она тоже; на это отвечал он, но что — он не помнил. Помнил, как он почтительно поцеловал руку княжны, как они уселись на диван, говорили что-то и она была так же прекрасна, так же очаровательна, какой он нашёл её с первого взгляда.
Он уехал от Али-Эметэ совершенно околдованный и не смел говорить о ней ни слова. Рошфор де Валькур напрасно неоднократно заговаривал с ним о своей невесте, он молчал. Даже де Валькур начинал казаться ему его врагом, адъютанты же, которые поздравляли де Валькура, казались ему пустыми болтунами, а унтер-шталмейстер — несчастным, который, дежуря у его экипажа, не видел сияния её глаз. Его охватывало отчаяние при мысли, что до завтрашнего дня он видеть её ни под каким предлогом не может.