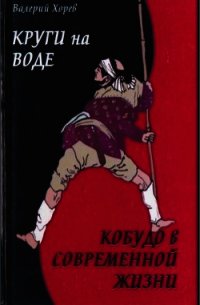Росс непобедимый... - Ганичев Валерий Николаевич (мир бесплатных книг txt) 📗
Селезнев был посажен рядом с говорливым художником де Ноном, а слева, к его радости, оказалась Милета. Она пришла в черном красивом платье с трехцветной кокардой в волосах. Когда все уселись, Наполеон встал, придавив зал своим взглядом.
– Граждане Франции! Воины! Ученые! Наши друзья! Сегодня, в канун старого 1799 года, мы не можем не задумываться над тем, кто мы. Пленники или победители? Обрек ли нас Абубакир на гибель или зовет нас к новым победам? Нет! Мы не сокрушены. Мы в Египте! Мы в Каире! – Бонапарт остановился, взглянул вверх и, как бы увидев там знамение, вдохновенно продолжал: – Перед нами маячат новые блистательные походы, грядут новые битвы; везде нам будет сопутствовать удача. Англичане заставят нас совершить более великие подвиги, чем мы предполагали.
Здесь, в победоносном для Франции месте, я объявляю, что мы выйдем скоро в новый поход. Мы разрушим походя Турецкую империю, вероломно нарушившую мир и трусливо бросившуюся в объятия Англии и России. Я создам на Востоке новое великое царство. – Он подумал и немного исправился: – Царство свободы. Мы достигнем Индии, и оттуда я возвращусь через Константинополь, Адрианополь и Вену, уничтожив и Австрийский дом! Мы даруем всем народам на нашем пути братство и помощь. Это откроет нам все границы и склонит перед нами все знамена!
В зале царила восторженная тишина. У многих навернулись слезы на глаза. Лишь Клебер нахмурился и, нервно постукивая ножом по тарелке, тихо сказал:
– Войско революции не жертва для приключений.
Наполеон быстро взглянул на него и с легкой улыбкой сказал:
– Кое-кто очень хочет есть. Я прошу вас приступить к обеду. Речей больше не будет.
Через мгновение за столом воцарился веселый шум, усиливающийся с каждым новым глотком вина.
– Генерал пьет только шамбертен. Это пяти-шестилетнее вино хорошо утоляет жажду. Он возит его повсюду с собой. Ну и, естественно, разбавляет водой.
Селезневу вино понравилось. Он вполуха слушал болтовню де Нона. Ему очень хотелось заговорить с Милетой, но она была увлечена разговором с Клебером, рассказывая ему о свободолюбивых традициях греков, о многоидейности Древней Эллады.
– Эллада прошлого – вот образец свободы и развития. Греки не терпели насилия, свобода была их богом. А боги были люди свободные. Они любили Красоту и Разум, они знали Просвещение и Труд. Они не склоняли голову перед деспотами, как их старшие братья-египтяне.
Генерал скупо отвечал:
– Я плохо знаю историю, но наш командующий предпочитает Рим с его легионами, миродержавием и космополитизмом. У него везде когорты, легионы, триумфы. Революционные праздники мы не отмечаем. Вот вздумали отметить старый Новый год.
Словоохотливый и бойкий де Нон, похожий на древнего сатира с толстыми губами, громко хохотал, набрасывал эскизы, подливал себе и Селезневу шамбертена, перебрасывался репликами с соседкой Наполеона.
– Кто эта женщина? – осмелился спросить Селезнев.
– О, вы не знаете? Это же знаменитая Беллилот! Ну, если вам ничего это не говорит, то могу сказать, что она жена офицера Фурэ Маргарита-Полина, модистка или швея из Каркасона.
– Как же она здесь оказалась?
– О, это замечательная история. Юная красавица надела мундир своего мужа и, добыв пропуск, в трюме прибыла сюда, в Египет. Здесь же такая красота в редкость. Швея стала нашей Клеопатрой, – ехидно улыбнулся художник.
Наполеон наклонился к Маргарите-Полине, чтобы налить ей воды из графина, но неловко выронил его и облил скатерть и ее платье. Громко сокрушаясь о неловкости, он увлек ее в свои комнаты, чтобы поправить беспорядок в ее туалете, совершенный по его вине. Все бывает и у генералов!
За столом на мгновение установилась тишина.
– А где же муж потерпевшей? – поинтересовалась Милета.
– Муж? Муж выполняет великое поручение генерала. 17 декабря он на Квебеке «Охотник» поехал доставлять депешу Директории. – Де Нон захохотал. – Я бы не советовал ему скоро возвращаться.
– Да, наверное, мужу было бы неприятно наблюдать это кудахтанье.
– Ну полноте, мадемуазель. Тут все полно приличия и рыцарской галантности. Для исправления туалета и для того, чтобы высушить платье, нужно не менее получаса. Генерал не любит долго возиться… с тряпками.
Милета больше не поворачивалась к услужливому суетливому художнику и обратилась без всякого перехода к Клеберу:
– Не знаю, хватит ли у вас, у вашего войска духа для утверждения революции?
– Да есть ли она? Жива ли она, наша революция? – горько ответил тот. – Когда я был последний раз в Париже, то видел сытых юнцов, издевавшихся над пролетариями, кричавших славу республике богачей. Роскошь дворцов снова била в глаза. А в хижинах, которым мы обещали мир, – снова уныние и нищета. Кто думает там нынче о принципах? Кто борется с безнравственностью и хищениями? Кто отстаивает идеал? – В его голосе была боль и горечь, он развернул стул к Милете и, тоскливо взглянув на нее, сказал: – Наш генерал, кажется, раньше всех догадался, что революция погибла. Поэтому он громче всех восхваляет ее и кричит о ней. Но солдаты верят ему. Правда, и они уже не свободолюбивые волонтеры. У них в обозах черные рабыни, верблюды, бурдюки, страусовые перья, кость, а кошельки набиты золотом. Тут уж не до революций. Поэтому одни со слезами тоски поют «Марсельезу», другие кончают жизнь самоубийством.
– Нет! Это неправда, – горячо запротестовала Милета. – Свобода должна жить, иначе мы погибли!
– Должна. Но, кажется, она остается только в виде идеала. – Генерал горестно вздохнул. – И мы должны за нее сражаться. Я не побоюсь отдать за нее жизнь, даже если революция уже погибла.
Дверь раскрылась, и в зал не спеша вошла ушедшая пара.
– Ну что я вам говорил, дорогие гости, – фамильярно стукнул Селезнева по колену де Нон и щелкнул крышкой часов. – Всего тридцать две минуты, а как все чистенько! Только личико чуть красненькое!
Но за столом, казалось, никто ничего не заметил.
– Надеюсь, вы не нарисуете меня в мокром платье, – хихикнула Фурэ, обратившись к де Нону.
– Нет, нет, мадам, вы будете сухенькой.
Прием продолжался.
РЕСКРИПТ ИЗ ПЕТЕРБУРГА
Всадник, бросив поводья, ехал, безжизненно опустив руки. Был неморозный февральский день с сыроватым туманом, птичьим беспокойством и предчувствием чего-то большого, важного. В природе накопилось всего в избытке: снега, льда, влажного воздуха, и все это скоро должно было пуститься в весенний хоровод, изменить свои очертания, а то и вовсе исчезнуть. Природа готовилась к новому и вечному возрождению.
Всадник изменений не ждал. Опальный русский фельдмаршал Суворов прощался с Кончанским, этой новгородской землей, готовился уйти в монастырь, от забот и суеты, а может, и от жизни.
В лицо пахнул ветерок, а в память вползал другой день… Он стоит на крепостной стене и видит, как подходят корабли, спускают шлюпки, и в них прыгают, как горох из мешка, отодвинув в сторону руки с ружьем или саблей, солдаты противника. Тогда он не стал дожидаться окончания высадки, а, удовлетворенно крякнув, к удивлению многих, повернулся и пошел в церковь на молитву.
…Наплыла голова в зеленой чалме, немигающе смотрела, но он так и не вспомнил, откуда она. Может, из этой толпы идущих перед ним пленных турок, втянувших головы в плечи и ожидающих кары. Бахвалистый их паша тогда заявил: «Скорее Дунай остановится в своем течении и небо упадет на землю, чем сдастся Измаил». Но Измаил пал. Суворову до боли было жаль своих погибших солдат, но на пленных он зла не держал – подчинялись приказу, хотя и неразумному.
…Вот и он подчинялся приказу, гоняясь по бескрайним волжским степям за пугачевскими бунтовщиками или штурмуя варшавскую Прагу.
…Приказ-то приказ, но и сам он считал, что державу надо беречь и блюсти от врагов внешних и внутренних. Может, чего-то и не разумел в царедворстве, но в военном ремесле знал точно, что нет ему равных. Знали ли другие? Да знали, наверное. Знали и боялись его. Нужен был им только для побед, для спасения империи. А он, казалось, не заботился о таланте, об авторитете, юродствовал вроде бы, впадал в детские забавы, кривлялся, сыпал замысловатыми мужицкими поговорками, порхал как воробей, кричал петухом. При дворе сановитые и вельможные, раздутые от зависти и чванства, готовые подставить ножку при случае, успокаивались при виде свихнувшегося. «Шут, скоморох, петрушка». А он, успокоив их, снова одерживал победы. Солдатам его шутки нравились, словечки запоминались, правила и прибаутки повторялись. «Герой, орел, отец родной» – по-иному и не называли.